Тюремные коты, знаменитые писатели и не только автофикшн
Книги тамиздата и писателей русскоязычного зарубежья: первая половина 2025 года
Пока государство в России борется с независимым книгоизданием, за её пределами растёт количество издательств и проектов, нацеленных на выпуск литературы, свободно говорящей на самые разные темы. И хотя многие авторы географически разбросаны, а кто-то по своей воле или вопреки ей остаётся в России, тамиздат прекрасно справляется с функцией создания альтернативного литературного пространства. Альтернативного чему? В первую очередь тому, что построено вокруг самоцензуры и стремительно расширяющейся зоны умолчаний о том, что по-настоящему триггерит, болит и объединяет всех, кто имеет отношение к русскому языку.
Конечно, мы понимаем: литература не обязана мыслить только жгучей социальностью. Видимо, поэтому в России пока ещё выходят книги эмигрантов. Но и их голоса, произносящие слова о жизни в России и за её пределами, всё очевиднее отдаляются от разрешённого. Или разрешённое отдаляется от них.
Что касается литературы, осмысляющей опыт восприятия войны, жизни в релокации/эмиграции, будни сопротивления российской диктатуре, то она неизбежно остро документальна — в ней велика доля дневников, записок, воспоминаний и самого разнообразного автофикшна. Это крайне важные свидетельства об эпохе и о том, как ощущает себя человек внутри неё.
С другой стороны, хотя жизнь подчас оказывается смелее самых макаберных фантазий, пространство воображаемого отнюдь не сужается — наоборот, оно наполняется новыми образами и сюжетами, обращёнными как к современности, так и к внеисторическим универсалиям. Давайте посмотрим на них.
Женя Беркович. Питомцы. Babel Books, 2025
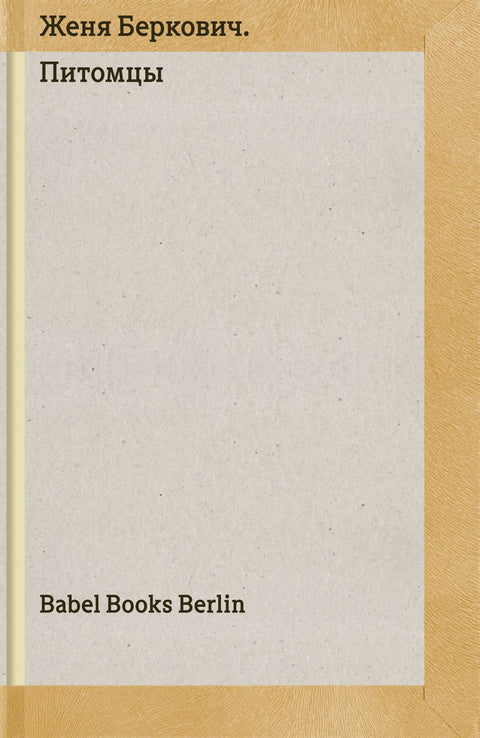
Что такое российская тюрьма? Вопрос риторический. Но для авторки этой книги, поэтессы и режиссёрки Жени Беркович, а ныне политической заключённой, — отнюдь нет. Из своей тюрьмы Женя написала светлую повесть о тюрьме и её обитателях и посвятила текст дочкам и бабушке.
Это вовсе не автофикшн, как можно было бы ожидать, такой как, например, “Я желаю пепла дому своему” поэтессы и активистки Дарьи Серенко, проведшей пятнадцать суток в спецприёмнике в феврале 2022 года, или “Мой тюремный трип” художницы Саши Скочиленко, освобожд нной по обмену после двухлетнего тюремного заключения. Нет, “Питомцы” — нежная, драматическая сказка, напоминающая скорее “Недопёска” Юрия Коваля. “Все персонажи-люди вымышлены. Все совпадения с реальными людьми случайны. Все события, происходящие в книге с людьми, никогда не происходили. А остальное — чистая, чистая правда!” — предупреждает Беркович, прежде чем мы понимаем, что её герои — это взбалмошные тюремные коты, угловатые служилые псы, неожиданно мудрые крысы, вездесущие тараканы и одна несуразная ворона, и все они умеют разговаривать, а ещё что-то делают для того, чтобы этот мир стал лучше.
Впрочем, люди в книги тоже есть, очень разные — и те, кто поддерживает порядки в угрюмой Тюрмяу, отнюдь не располагающей к содержанию зверинца, и те, кто остаётся человеком даже в условиях ограничения свободы. Люди суетятся, подсиживают друг друга или налаживают связи, пока звери большей частью предоставлены сами себе, но потому они даже более принципиальны в вопросах этики и морального выбора.
Книга Жени Беркович как раз об этом — о моральном выборе, который возможен вопреки обстоятельствам, то есть в самых неподходящих условиях, а еще — о том, как быть бесстрашным, когда страшно, и о том, что вместе всегда легче.
Ворона была тяжёлая, коты голодные, поэтому двигались носильщики медленно. Торжественно прошествовали мимо Прогулки, мимо церкви, мимо главного входа, свернули к корпусу, где находилась медчасть. Остановились и осторожно положили Ирчу́ возле крыльца. Отдышались. Процессия тараканов приблизилась и положила лист бумаги. Записка гласила:
“Птица типа ворона. Дохлая, но не совсем. Мы не виноваты. Ничего не знаем, не в нашу смену. Надо лечить”.
Тюрьмяу уже вовсю просыпалась. По двору ходили дежурные, Хозки подметали территорию, где-то громко включили телевизор. Тараканы исчезли, как и не было.
— Мы сделали что могли, — сказал Котан и отряхнул лапы. — Теперь валим.
Владимир Сорокин. Сказка. Freedom Letters, 2025
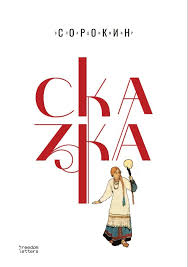
Ещё одна сказка, но, в отличие от “Питомцев”, прямо апеллирующая к фольклорной архаике и одновременно написанная поверх отечественного литературного канона. Очередной роман Владимира Сорокина и потенциальный бестселлер (потому что другое живой классик уже не пишет) — для многих долгожданный. В конце концов, Сорокин столько раз в своих книгах пугал и предсказывал страшное и столько же раз приходилось убеждаться, что мы живём в мире Сорокина, что к кому, если не к Сорокину, идти за ответами на сакраментальные вопросы: что будет дальше, какой окажется жизнь после войны?
Остальное — детали. И мир постапокалипсиса, вернувшийся к архаике, — он напоминает даже не ретротопию “Дня опричника”, но вселенную “Кыси” Татьяны Толстой. И герой — мальчик-сирота Иван, мечтающий всё вернуть, как было до войны. Здесь Сорокин, конечно же, считал желание, растворённое в воздухе современности, — сказочному Ивану придётся, как того требует жанр, идти через испытания к осуществлению заветного. И трое из ларца — Лев, Фёдор и Антон. Лев — с седой бородой, Антон — в пенсне, ну а с Фёдором и так всё понятно. И физиологическое бесстыдство, хотя в этот раз сцены секса не порнографичны — знавали мы Сорокина пооткровеннее. И иронические стилизации под Льва, Фёдора и Антона — они заставляют вспомнить бессмертное “Голубое сало”: в новом романе воспроизведён даже фирменный прыжок в отдалённое будущее.
В общем, сказка очень сорокинская, похабная, невесёлая, однако неожиданно обещающая хорошую развязку. Хотя бы для одного отдельно взятого человека.
— Ну что, за мирное небо? — живая мама свою стопку подняла.
— За мирное небо! — живой отец прорычал.
— За мирное небо! — живой дедушка очками блеснул.
— За… мирное… небо, — Ваня произнёс губами ещё непослушными.
Выпили, стали закусывать. И за борщ принялись.
— Ну как борщок? — мама спросила.
— М-м-м… слов нет… — дедушка головой качает.
— Сказка, ёптеть… — отец жуёт, сам в ноутбук пялясь.
Попробовал Ваня мамин борщ. Живой. Борщ.
Проглотил Ваня и сказал уже уверенно:
— Сказка.
Дмитрий Быков. Дуга; Готические рассказы; Дево, радуйся. Freedom Letters, 2025
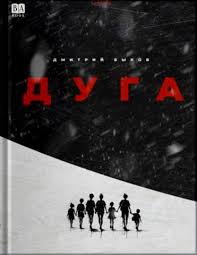
Новая книга Дмитрия Быкова состоит из повести, рассказов и поэтических текстов, поставленных, по пастернаковскому примеру, в финал и тем самым цементирующих неочевидное общее целое. Но тексты всё же неоднородны: повесть, написанная по следам Стругацких, являющаяся сиквелом к их “Далёкой радуге”, далека от готики самого страшного и самого сильного рассказа в сборнике “Можарово”, и оба этих текста, в свою очередь, казалось бы, далеки от поэмы о судьбе Мэрилин Бержерон, ведущей из жгучей современности к библейской истории. Ключом ко всей книге становится тайна как таковая. Вокруг неё строится каждый текст. Но для каждого текста тайна приобретает особые параметры.
К примеру, в “Дуге” Быков пытается понять природу загадочной Волны, вызванной опытами учёных с нуль-транспортировкой и уничтожившей на планете практически всю жизнь. Это сюжет самих Стругацких, завещавших нам идею о том, что вопросы гуманитарного характера важнее авантюрной занимательности фантастики. Волна у Быкова неизбежно рифмуется с войной — и именно так возникает теория срезания “выступа дуги ходом вещей”. Туда, где возникает интеллектуальная элита, отличающаяся от “общества счастливых посредственностей”, приходит срезающая Волна. Исторические аналогии уместны. И самая соль — это самосознание выживших, понимающих, что их опыт, прямо по Шаламову, никого ничему научить не может.
Концентрирующее ужас и тайну, которую невозможно проговорить (приём Стругацких, прекрасно усвоенный Быковым), “Можарово” написано по следам известного стихотворения про умирающих зверей около двери, ставшего эпиграфом к “Жуку в муравейнике”, а затем получившего народное продолжение: “нашлись те, кто их пожалели”, “звери вошли и убили всех”. Стихотворение повсеместно вспоминали в сетях в связи с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. У Быкова, заменившего зверей на людей и поместившего тайну на захудалую железнодорожную станцию где-то в глубине России, появляется дополнительное постапокалиптическое измерение, а также ощущение, что всё происходящее — расплата за большую войну, перевернувшую положение вещей самым радикальным образом, до возникновения аномалии.
Да и вся эта книга написана на полях главного нарратива — войны, которая ни на секунду не отпускает автора.
— Регрессоров стало больше, чем прогрессоров, и самое печальное, что они получают от своей работы гораздо больше удовольствия, чем прогрессоры. Я даже боюсь, что мы в полушаге от возвращения к пыточным практикам, потому что ваша профессия гораздо туже завязана на эрос, чем принято думать, Земля уже знала такие оргиастические увлечения…
— Леонид Андреевич, — сказал Саблин очень серьёзно. — Действие Волны, насколько могу видеть, выражается главным образом в том, что человек начинает охотнее верить в худшее. Это бывает, и это характерно для отдельных исторических эпох. Но в целом для человека это нехарактерно.
Ирина Машинская. И я подумала о Скотте. Стеклограф, 2025
Ирина Машинская. Горизонт и пещера. Избранные эссе и проза: 1995‒2024. Esterum Publishing, 2025
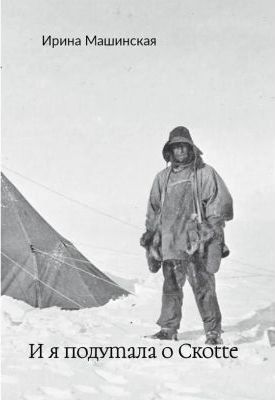
В последние несколько лет выходит довольно много прозаических книг, написанных поэтами. Вот и поэтесса, уже тридцать лет живущая в США, Ирина Машинская выпустила за полгода целых две книги (одна из них выпущена российским “Стеклографом”). Обе — автобиографические, а потому пересечение материала в них неизбежно, хотя московская книжка в большей степени наполнена историями и впечатлениями, связанными с эмиграцией и жизнью в Америке, в то время как франкфуртская сосредоточена на семейной истории и попытках понять, что такое поэзия (в эссе, следующих за прозой).
Важно обозначить, что письмо Машинской не автофикционально. Здесь отсутствует автофикшн в том виде, который востребован у современных поэтесс от Полины Барсковой до Оксаны Васякиной. Машинская идёт, скорее, от прозы и эссе Цветаевой, Бродского и в принципе литературы ХХ века, умевшей облекать исторический материал, всегда полный драматизма, в лирические формы. Через её проникновенные рассказы об отце, матери, бабушке, дочери так или иначе говорит само время: Вторая Мировая война, перенёсшая семью из Украины на Урал, Москва детства и юности рассказчицы, то есть Москва 1960–1980-х годов, Америка 1990‒2000-х, отнюдь не ласковая к эмигрантам, но научившая многому, о чем не приходится жалеть. Машинская пристально вглядывается в ландшафты, в почти неуловимые, но точные движения времени, и её особая оптика ностальгически и с благодарностью подсвечивает каждую деталь.
Мама начала заикаться, когда ей было девять и немцы бомбили поезд, медленно увозивший её и бабушку на Урал. Они только что оставили Киев — за пару недель до прихода немцев. Беззаботная Офелия наконец сдалась, забросила маму в грузовик с незнакомыми людьми, соседями, бегущими из города, и лишь через несколько дней соединилась с ней в Харькове, где родственники потешались над трусливыми киевлянами. Их, а следовательно, и моя жизнь обязаны этому долго принимавшемуся решению. Там, в Уфе, пухленькая мама (фотография в балетной пачке), объект обожания и непрерывного кормления, узнала голод и начала складывать стихи.
Полина Барскова. Сибиллы, или Книга о чудесных превращениях: не совсем повесть и совсем не роман. Издательство Ивана Лимбаха, 2025

Эта книга действительно не повесть и не роман, а, очевидно, автофикшн поэтессы и филолога Полины Барсковой, далеко не первый раз обращающейся к подобной форме (мы помним, например, её “Живые картины”, также выпущенные издательством Лимбаха). Однако, пытаясь работать как с коллективной памятью, так и с личными воспоминаниями, Барскова не стремится к жгучей однозначности прямого высказывания — её проза, впрочем, как и поэзия, принципиально многослойна, а в данном случае ещё и многосубъектна. И каждый субъект — в некотором роде альтер-эго авторки: от Марии Сибиллы Мериан, немецкой художницы, чьи роскошные зарисовки экзотических насекомых были выкуплены Петром Первым для Кунсткамеры, до её дочери Доротеи Марии Генриетты Гзелль, также художницы-анималистки, получившей место при дворе в Санкт-Петербурге и курировавшей коллекции естественной истории в той же Кунсткамере. Где-то здесь же обитают уже больной Юрий Тынянов, написавший “Восковую персону”, и сама Полина Барскова, современная и живая, страстно любящая город, который ей пришлось покинуть много лет назад. Из своей эмиграции она ещё пристальнее вглядывается в его лабиринты истории, его топографию, его знаменитых детей и пасынков, пытается вжиться в их жизнь, растолковать их тексты. Так что XVIII век в её прозе оказывается бок о бок с двадцатым и двадцать первым, а проза органично перетекает в мемуары, а потом в эссе, чтобы снова обернуться прозой, художественным допущением.
Собственно, не так и важно, какие приёмы использует Полина Барскова, разрушая жанровые каноны: ей удаётся создать по-настоящему сложную, барочную конструкцию из чередований субъектов, исторических обстоятельств, прочитанных и присвоенных текстов, взаимоотношений с пространством, домысленных и реально испытанных ощущений, размышлений о пустоте, смерти и, в конечном счёте, перерождении. Так гусеницы становятся личинками-куколками, чтобы потом превратиться в бабочек.
Слово “лярва” не даёт мне покоя — оно означает “личинка”.
Лярва — личина, маска, но также гулящая девка-предательница, женское скрытое непонятное, и также лярва — привидение, злой неупокоенный дух, предсказание, не желающее исполняться.
Лярва — вся обещание, неясно, что там внутри, что выйдет, что выберется оттуда.
Кунсткамера Петра и кунсткамера Тынянова была химерой, лярвой, метафорой, — Кунсткамера Доротеи Гзель была смыслом и радостью, амбицией и скукой — и работой, работой — всей жизнью до конца. День за днём, полной до краёв. Полная забот и отчуждения, полная перемен и людей.
Меня занимает попытка понять, что видела, что пережила, что чувствовала эта столь далеко отстоящая от нас от/важная живая женщина. Меня тревожит эта жизнь, полная пустот и разрывов, в эти разрывы попадали снег и ветер.
Динара Расулева. Травмагочи. shell(f), 2025
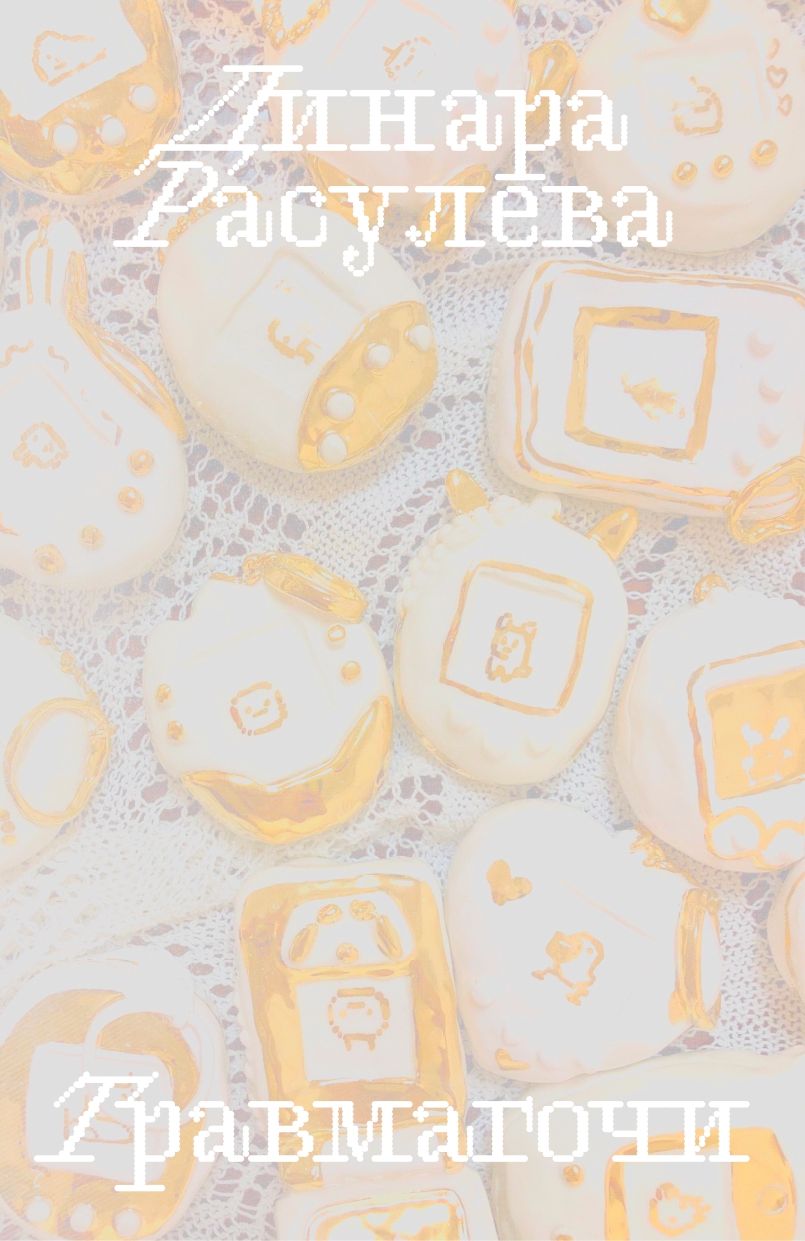
Ещё один автофикшн от поэтессы. Динара Расулева какое-то время назад, ещё в довоенные годы, переехала из Казани в Берлин, занялась перфомансами и иными проектами, направленными на создание деколониальных смыслов. В своих текстах она использует не только русский язык, но татарский, английский и немецкий. Автофикшн не стал исключением в плане языка, хотя в этот раз деколониальное не определило содержание высказывания Расулевой. Для авторки скорее было важно найти механизмы формирования идентичности, увидеть их связь с её персональными травмами и ответить на вопросы: почему я такая, почему мне сейчас плохо и как на это влияет прошлое?
Так появляется центральный образ травмагочи Диляры, носящей на себе, в некоей природной сумке, овеществлённые травмы в виде яиц (своего рода икры), от которых нельзя избавиться, более того, их необходимо беречь. “Через бархатную мягкость саксокового пузыря я нащупала самое большое травма-яичко. Оно робко подрагивало, и чем сильнее мои пальцы сдавливали его, тем громче и яростней визжало”.
Однако не стоит ожидать от текста Расулевой надрыва или символической капитализации травм — даже об аборте она пишет, пусть и с оглядкой на Анни Эрно, но довольно легко. Причём аборт этот делает не травмагочи, живущая в дополненном фантастическими деталями Берлине (они исчерпывающе перечислены в аннотации к книге: робото-йога, говорящие пельмени, потусторонний интеллектом и одежда из плачущей человеческой кожи). Аборт — это из настоящей, казанской жизни, в которой нет фантастических приращений — только реальность, пропущенная через призму памяти и отчасти ностальгии, желания вернуть всё, как было. Но самое главное, что появляется в книге, связано не с травмой, а с попыткой прикоснуться к тому, что не хочется отпускать: родители, коты, отношения в семье, неподдельные эмоции: любовь, нежность, вина.
Мысль о том, что можно и даже приятно быть средней, посетила меня на чтениях Аллины Арсковой.
Мы сидели в крохотном зале лягушачьего крематория в независимой части Берлина с двумя другими берлинскими поэтками, Улой и Иллой. <…>
Аллина читала про послевоенный Лилинград, мои мысли растекались ручейками, когда вдруг божественный луч озарил тусклость пыльной комнаты, подсветив фразу “и было там множество разных поэтесс”. Фраза неоново замигала посередине зала, и я подумала: ого, так вот и мы тут, множество разных поэтесс, не лучше или хуже, просто разных.
Александр Моцар. На войне выживают только кактусы. Заметки из Бучи. Fresh Verlag, 2024
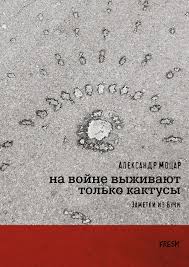
Книга украинского русскоязычного поэта Александра Моцара вышла в начале 2025 года. Она, с одной стороны, пополнила уже внушительный ряд книг, представляющих свидетельства очевидцев войны с украинской стороны. С другой — представила особый взгляд поэта на реальность, которая расползлась, трансформировалась на глазах: мир обернулся войной, родное место превратилось в поле боя, дом перестал быть тем, что обеспечивает защиту и покой.
От заметок из Бучи, тем более дневниковых, охватывающих два военных года — 2022 и 2023 — вольно или невольно ждёшь описания широко известных событий, сопровождавших российское вторжение в этот город. Моцар пишет далеко не обо всём, а только о том, что видел своими глазами. Здесь неминуемо будут и перестрелки, и военная техника, и трупы на улицах, и мародёры, и трудная эвакуация в Киев, и возвращение в освобожденный город, и новая поездка в Киев, и новое возвращение. И ещё множество фотографий — с простреленными дверями, металлическими столбами в дырах, расщеплёнными деревьями, крошащимися стенами. В том числе сразу же сделанная после возвращения из Киева: горшки с мёртвыми домашними растениями, из которых только кактусы пережили длительное отсутствие человека.
Однако свидетельстве Моцара нет возгонки ужасов войны. Наблюдатель иногда сухо фиксирует факты (ужасающие сами по себе, а не от авторской подсветки), а иногда включает культурные настройки, и тогда он превращается в поэта-философа, оказавшегося в вихре истории, но не изменившего собственному предназначению.
Сумрак и непрекращающиеся разговоры о новой реальности:
— И дело даже не в том, что ради “дивного” вчера Жижек готов сократить популяцию разумных гоминидов, и при этом, не теряя своей пайки, продолжить читать лекции о квазитрансцендентальном опыте военного коммунизма. Суть в том, что он трусливо уловил тревогу перелома мира. Мир стал прошлым, новое неизбежно.
Ольга Романова. Игра в бутылочку. Freedom Letters, 2025
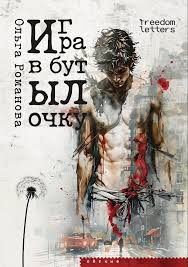
Журналистка и правозащитница Ольга Романова написала политический триллер с элементами квира и сатиры. “Игру в бутылочку” можно прочитать через любой из этих жанровых и тематических фильтров. Политическим этот роман делает пристальное внимание к быту и нравам советской, а затем российской номенклатуры — Романова как бы приоткрывает дверь в мир комсомольских и партийных работников позднесоветской эпохи, проводит читателя через лихие девяностые, когда власть оказывается в плотной связке с бандитизмом, и выводит в отвертикаленные двухтысячные, вернувшие силу никуда не исчезавшему, только сменившему вывеску КГБ. Текст последовательно движется от поляковского “Апофегея”, запечатлевшего мелкую моторику советского карьеризма, к прохановскому “Господину Гексогену” с его выпуклой сатирой на первых лиц государства и их окружение. Героини и герои Романовой большей частью узнаваемы, где бы они ни находились — от Дрездена до Питера, а то и вовсе в космосе. Романова даёт мощные, местами сатирические зарисовки из серии “их нравы”: эти нравы далеки от провозглашаемых с высоких трибун скреп и традиционных ценностей, циничны, но что касается личной жизни — по-человечески понятны (без квира и у них не обошлось). Их можно было бы и не осуждать, если бы их носители сами не осуждали других.
А главное здесь то, что система всегда сильнее человека. Она-то уж ни перед чем не остановится, тем более перед убийством какого-то российского гея, сбежавшего в Берлин. Да и Валентина Ивановна и Валентина Владимировна всегда за всех всё порешают.
А Людка не чуяла этой боли. Она уже вообще ничего не чуяла. Таня видела, как она тоже превратилась в жабу. Пыталась вспомнить весёлую аптекаршу в ямочках, с которой когда-то встретилась здесь, в Парголово. Пыталась вспомнить хорошую бабу, хоть и райкомовскую, которую многие любили и ценили от души за дело, за нрав, да и за неготовность ложиться подо всё подряд.
А как она девочкам помогала, нашим. Оля Краузе, питерский воробей, Пиаф, потребляющая, сидевшая, а как Людка её пасла. Нет, там было не помочь — открытая лесбиянка, в те-то годы, опытная и стреляная, а поди ж ты, беззащитная и непрактичная.
Но как она пела!
И она уехала из Питера. В Харьков. Написала военный дневник. Людке всё это было уже не показать. Ожабела.

