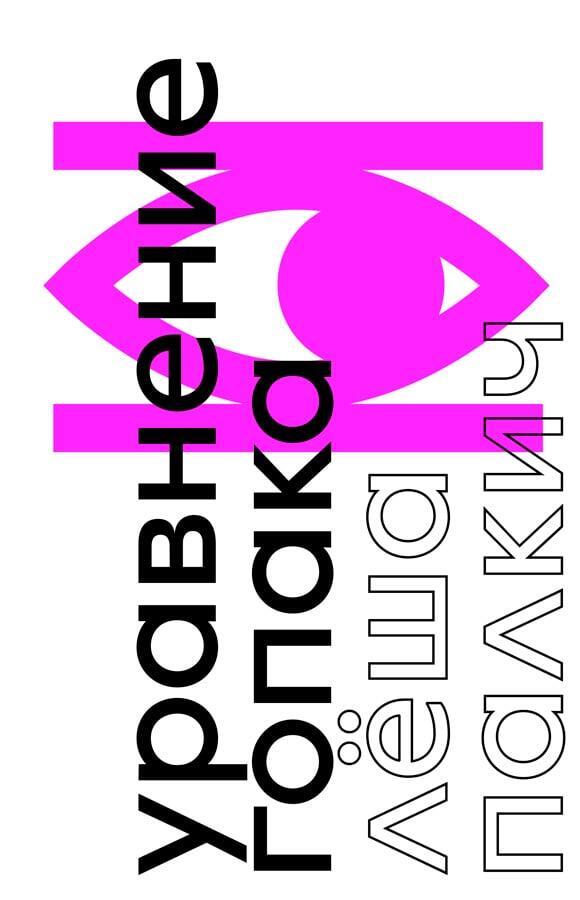Война Севера и Юга, меланхолический Берлин, слоны в городе и тела на продажу
Книги тамиздата и писателей русскоязычного зарубежья: первая половина 2025 года, часть вторая.
Павел Кушнир. Биробиджанский дневник. Медуза, 2025
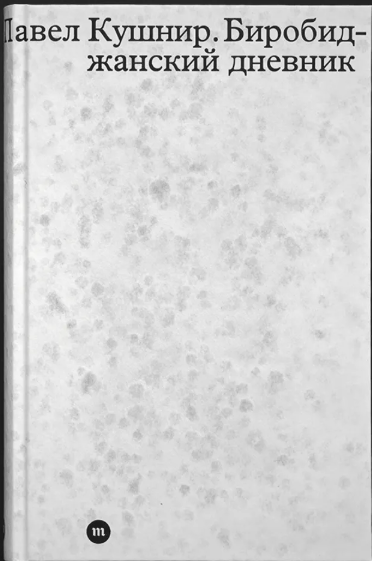
Начну с самой громкой и необходимой для прочтения книги в 2025 году. Про Павла Кушнира, пианиста, писателя, политического заключенного, погибшего в июле 2024 года в результате сухой голодовки в СИЗО Биробиджана, написано уже немало, но этого вряд ли достаточно для понимания масштаба его литературного дара и личности в целом. Текстов и исследований должно быть и, не сомневаюсь, будет больше, ведь перед нами бесспорная и художественно одаренная фигура российского сопротивления. К тому же большую часть наследия Кушнира только предстоит собрать и опубликовать.
Роман “Русская нарезка”, переизданный в прошлом году в Берлине и наконец прочитанный литературным сообществом, дал представление о методе письма Кушнира, сочетающем постмодернистскую интертекстуальность с автофикциональной оптикой и модернистскими практиками автоматического и шизофазного письма (т. н. “нарезки”) — критики не случайно сравнивали его с радикальным нелинейным письмом культового неподцензурного писателя Павла Улитина. “Биробиджанский дневник”, заявленный как дневник, но фактически представляющий собой большую документальную поэму, написанную, конечно, верлибром, а то и полноценную симфонию (наподобие эпохальных симфоний Шостаковича), не открывает нам стилистически нового Кушнира, но формирует обновленный образ автора и проясняет его отношения с эпохой, без сомнения, говорящей через него.
В “дневнике” мы видим Кушнира почти без защитных слоев литературной игры. Кушнира, экстатически взбудораженного, камлающего над пропастью войны и государственного зла, определяемого им однозначно как фашизм. Кушнира в тисках нескончаемой боли, испытывающего притяжение к смерти не меньше, чем постоянно упоминаемый им Курт Кобейн. Кушнира, делающего этический выбор, внутри пролонгированной чрезвычайной ситуации, вытеснения рутины войной. Кушнира — не то осознанного экстремиста, не то агента иного, этакого Малдера (через которого он себя описывает), пытающего нести знание о том, что идёт в разрез с ценностями и практиками большинства. Кушнир в “дневнике” полностью отдается бегу и хору времени, горестно фиксируя жатву смерти и разрушения и масштабируя новостную ленту до хроники апокалипсиса.
Белгородская область: мобилизованные
стали стрелять из пулемёта по своим,
пока их самих не убили
положили 10–25 (оценки разные) человек
их было трое, возможно даже один убежал
мне очень плохо
мне совсем плохо
порвалась струна у пианино и чёрная кошка
перебежала мне дорогу я долго, продираясь через
какие-то ёбаные кусты, обходил и не знаю то ли
обошёл то ли всё-таки пересёк
all great men cross that line
I’ve crossed it not to say I’m great
in any way but I have crossed it
Саша Скочиленко. Мой тюремный трип. Freedom Letters, 2025
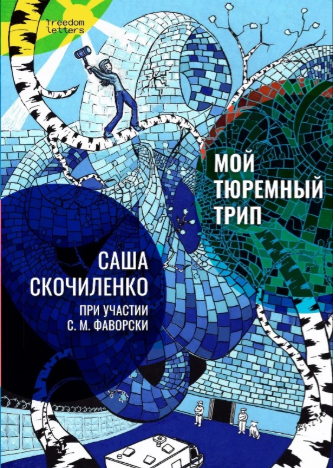
Еще одна знаковая фигура российского сопротивления — художница, писательница, феминистка и анархистка Саша Скочиленко, арестованная в апреле 2022 года за замену ценников в супермаркете на антивоенные высказывания. В августе 2024 года она была в группе политзаключённых, которых удалось вырвать из тисков российской репрессивной системы. Автофикшн Скочиленко ожидаемо посвящён опыту политического протеста, пребывания в СИЗО и последующего неожиданного освобождения.
Повествование от первого лица разбито здесь документальными вставками, в том числе протоколами из зала суда, имеющими свойство, как мы знаем по прецедентам (от Вигдоровой до Юсуповой), превращаться в литературу абсурда. Эти вставки, дающие взгляд со стороны, не только достраивают сюжет, но и укрупняют общую историю Скочиленко. То есть перед нами не просто незатейливый рассказ о собственной жизни в эпоху политического шитшторма и большой трагедии войны, но биография человека, решившегося пойти против государства и не отступившего ни на шаг от собственных принципов. Так что сложно читать этот текст без эха “Архипелага ГУЛАГа”.
При этом Скочиленко, помимо тюремного быта и процессов, связанных с судом, удаётся, во-первых, живописно представить артистическое пространство предвоенного Петербурга с его уже легендарными ДК имени “Розы”, “Рёбрами Евы” и т. д., бурлящим политическим протестом; во-вторых, описать состояние человека с биполярным расстройством, для которого пребывание в заточении становится серьёзным испытанием.
Человек с биполярным расстройством абсолютно вменяем, кроме тех редких случаев, когда находится в острой фазе психоза — чего трудно добиться, когда заботишься о своем психическом здоровье примерно так же, как я. Люди с биполярным расстройством живут самой обычной человеческой жизнью: заводят семьи, работают врачами, учителями, госслужащими и даже психиатрами.
Тем не менее следователю Илье Проскурякову показалось недостаточно заключения врача из ПНД и пройденных мной прежде комиссий. Он настоял, чтобы меня отправили на судебно-психиатрическую экспертизу на целый месяц.
Борис Акунин. Проснись! У(дис)топия. BAbook, 2025
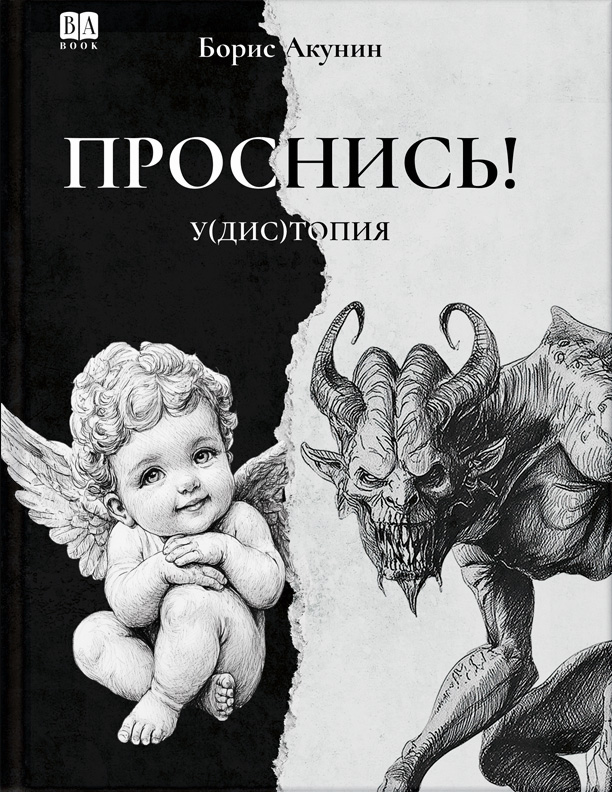
У(дис)топия Бориса Акунина — наверное, первое настолько очевидное политическое высказывание Бориса Акунина в художественной прозе. Оно далеко от уютного имперства фандоринского цикла и исторических нарративов, которые увлекали автора в последние годы и в некотором роде указывали на его либерализм образца 90-х. Действие нового романа происходит в будущем, и это будущее смоделировано прогностически в отношении нынешней ситуации большой европейской войны. Соответственно, две части романа располагаются в разных зонах шкалы прогнозов. Первая часть — чистой воды утопия, фактически акунинский трактат из разряда “как нам обустроить весь мир”, написанный из непременной для либералов со стажем правоцентристской позиции (против радикальных правых и радикальных левых). Условная точка входа здесь — возможность завершения войны относительно мирным путем. Вторая часть — жёсткая антиутопия, в которой Россия побеждает Украину, лишает Европу суверенитета, и только Великобритания в силу своего островного положения продолжает сопротивляться, для чего ей приходится милитаризироваться и трансформировать политическую систему в сторону автократии фашистского образца. Диаметрально противоположные геополитические сценарии объединены историей одной русской супружеской пары, прожившей долгую и счастливую жизнь, решившей заморозиться в резервуаре с жидким азотом и, соответственно, проснуться уже в будущем.
Понятно, что самое интересное здесь — это именно представления Акунина о том, как сделать человечество счастливым. В них найдутся и мировое правительство, и капитализм с человеческим лицом, когда богатые с удовольствием отдают деньги на решение общечеловеческих проблем, и выход из региональных конфликтов, и отказ от промышленного убийства животных, и забота об экологии и состоянии земли, и инструменты по обеспечению долголетия человека, омоложения организма, нормализации психического здоровья, и много еще чего, в том числе рецепт, как сделать так, что эмиграция перестанет быть актуальной, ровно как и ЛГБТ-повестка — вот вам только два пола и возможность их менять по запросу. И, конечно, безоговорочное освоение космоса. Только один шаг не сделан автором в этом удивительно знакомом благорастворении воздухов: воскрешение предков. Хотя умершую много лет назад собаку клонировать ему удается.
Тут самое время начать переживать из-за утопических длиннот, переходящих в раздражающий менсплейнинг, но все же Акунин — мастер динамичного экшна, и драматическая динамика второй части компенсирует разговоры об устройстве мира-рая в первой.
— Понимаешь, государств в прежнем смысле вообще больше нет. После “Черной Пятницы” и Сингапурского диалога старое политическое устройство мира рассыпалось. Сформировалась система “Цзинцзюй”. Когда Сун Минжэнь выпустил Сямыньскую декларацию по поводу Фуцзяня...
— Погоди ты с цзинем и цзянем. Не морочь голову. Чем закончилась война? Я сюда прибыла из апреля две тысячи двадцать пятого года. У нас там лопнула надежда, что США найдут укорот на Путина. Все были в жутком унынии, а я думала: уйду — не оглянусь, яду мне, яду.
— Да нет, Путин ни хрена не победил. Мировая экономика обвалилась, цены на нефть рухнули. Москве стало не до завоеваний. Империя выдохлась.
Саша Филипенко. Слон. Vidim Books, 2025

Роман писателя, журналиста, лауреата целого пула литературных премий Саши Филипенко, создан очевидно по следам задавленной беларусской революции и не получивших прямых политических последствий российских протестов. Кафкианская реальность здесь аранжирована жестокостью диктатуры (так и хочется написать родной, но книга, к счастью, не про стокгольмский синдром), стремящейся сломать человека, превратить его в животное, а также вопиющим равнодушием и конформизмом молчаливого большинства, сначала не замечающего “слона в комнате”, буквально — в каждой, то есть у каждого, а затем, после множества трагических событий и даже изменения конституции, исхода слонов из города. Слоны здесь, разумеется, не совсем слоны и даже не ходячая совесть с хоботом и ушами, как в “Бобо” Линор Горалик, но, скорее, минус-символ, минус-приём, позволяющий сделать наглядным то, о чем все молчат (все, за исключением сопротивляющихся безумцев), потому что страх перед государством сильнее правды. Так же, как драматическая любовная история, проходящая через весь роман, — такой оммаж оруэлловскому “1984”, — совсем не про любовь, но и про власть, гнущую любого в дугу, лишающего всего человеческого, гуманного.
И тем не менее не стоит ждать от Филипенко только ужасов тоталитаризма. Его роман — блестящая литературная конструкция, игра с аллюзиями на русскую классику — вплоть до “Приглашения на казнь” и, разумеется, Сорокина, и с обильным метатекстом — один из героев, писатель-конформист Александр, проговаривает некоторые моменты своей писательской кухни, да что уж там, Филипенко ввёл в роман целый читательский форум, с его непременной шизофренической разноголосицей, которая, надо заметить, иногда разъясняет то, что в сюжетных линиях не называется своим именем. Наконец, специфическим ключом к “Слону” становится набоковская крестословица, то есть кроссворд, который автор предлагает заполнять по ходу романа — и это становится отдельным занимательным сюжетом с непременным пуантом в финале.
К слонам привыкали. Водители автобусов ловко маневрировали между животными, а сотрудники музеев учились описывать картины, которые заслоняли слоны. К животным приспосабливались дворники, чей рабочий день становился гораздо сложнее, и преподаватели психологии, объяснявшие, что порой слон — это просто слон. Казалось, тяжелее других должно было приходиться транспортникам — животные стояли посреди вокзалов, портов и взлетных полос, однако и капитаны всех на свете мастей на удивление быстро отказывались от путей, морей и небес.
“Некоторое время придется побыть дома”.
“Но какое?”
“Да долго это точно не продлится!”
Лёша Палкич. Уравнение Гопака. Роман о войне без войны. Vidim Books, 2025
Палкич — русскоязычный писатель из Днепра, замеченный ранее на ниве фантастики и не особо покинувший ее сейчас, хотя новая его книга, засветившаяся в лонг-листе премии “Дар”, не подпадает под какие-либо определенные конвенции, даже антиутопические. Скорее она похожа на попытку поместить “Обитаемый остров” в австро-венгерский сеттинг прозы Ивана Франко или объединить любой на выбор эпизод “Игры престолов” с “Похождениями бравого солдата Швейка”. Но и эти сравнения не опишут в полной мере ни мира, созданного Палкичем, ни специфики его письма.
В “Уравнении Гопака” диктаторский, милитаризованный Юг оккупирует относительно демократический разноплеменной Север (исторические аналогии здесь ясны), идёт война, о которой нам рассказывают немного, разве что вставная новелла о герое Севера Ражнате Гебо и гибели лучшей бригады Юга “Степные Медведи” в Тъсной Ущелине даёт представления о ходе боевых действий. Тем не менее обещанная в названии война без войны предполагает иной фокус — на взвихренной судьбе иных героев, один из которых предельно прост и прозрачен в своём желании заработать денег, другой сложен и абсолютно инороден происходящему, и оба оказываются в оккупационных войсках на Севере. Автор свирепо сводит все сюжетные линии, раскрывая героев через поступки и обращения к семейной истории, наполненной под завязку не то ядовитыми скелетами в шкафу, не то сухими пауками в банке.
Наверное, главное в романе Палкича то, как сшиваются в единое лоскутное одеяло условные австро-венгерские, польские контексты, нравы ромов (“цыгов”), слои прошлого, войны эпохи модерна, нынешняя большая война и т. д., а также то, как из этой гремучей смеси выступает специально не обозначенная ни разу, но моментально опознаваемая украинская идентичность.
— Я не понимаю, откуда вообще взялась эта Смута? — опять встрял в разговор Гинц, когда дверь за Мольнаром захлопнулась, — ведь жили мы нормально без всякого объединения. Зачем?
— Не Смута это, а война, — начал заводиться учитель Пернак, — самая обычная гражданская война. Убиваем друг друга.
Север, Юг, Запад, Восток. Четыре стороны света, сто сорок шесть субъектов на политической карте. Княжества, республики, монархии, колонии, диктатуры, вольные города. Каждый сам по себе. Нос в чужие дела не суёт. Соседи враждовали периодически, локальные конфликты. В целом — спокойно жили. Потом возникла идея всем объединиться.
Татьяна Бонч-Осмоловская. Письма с острова. НЛО, 2025
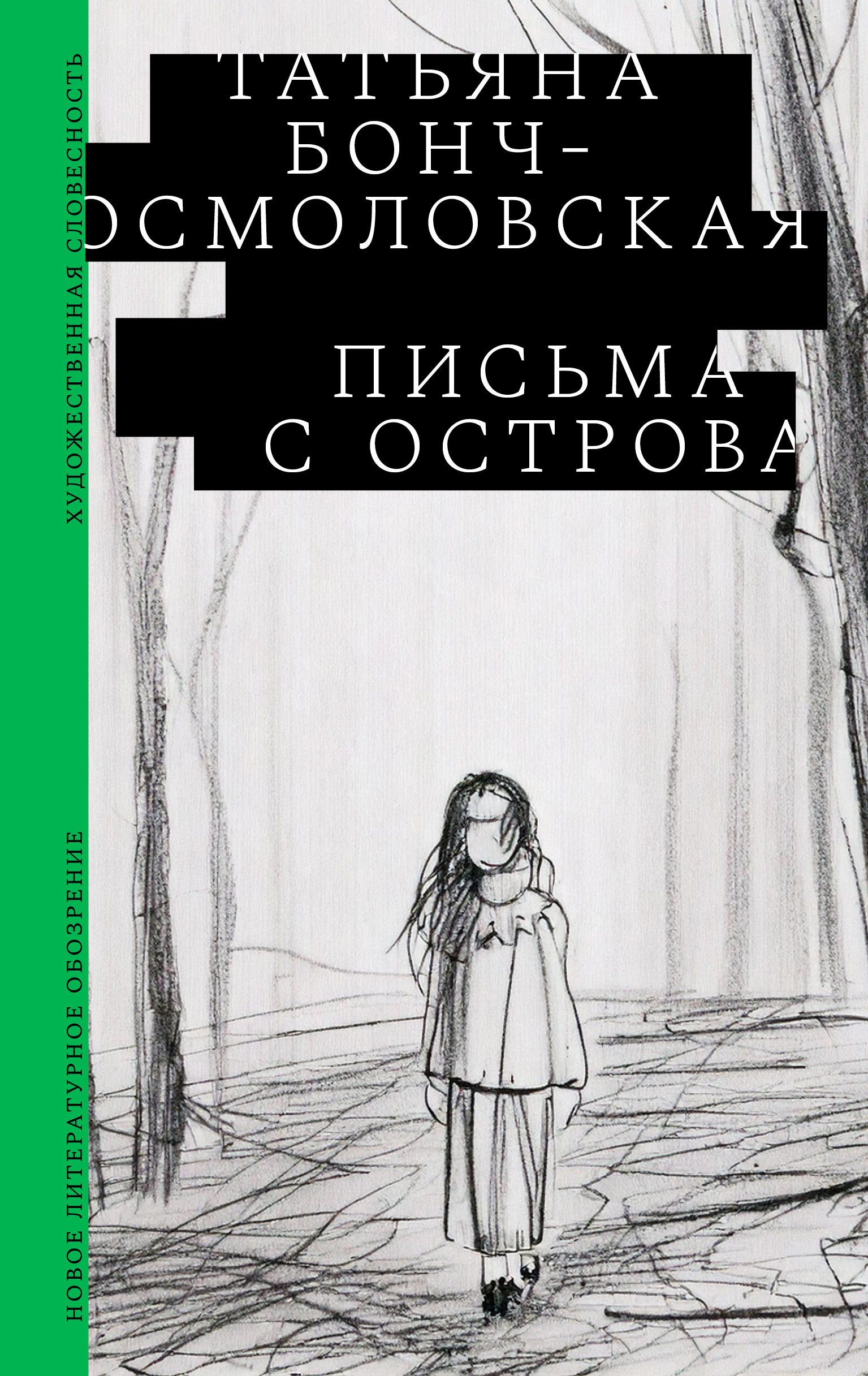
Если посмотреть на карту мира, то Австралия на ней окажется не просто континентом, но большим островом. Именно на этом острове живет поэтесса и писательница Татьяна Бонч-Осмоловская. И именно оттуда она пишет “письма”, а на самом деле, рассказы, сказки и стихи — они вошли в эту книгу и оказались сгруппированы так, что истории, рассказанные в прозе, перемежаются поэтическими текстами. Мы привыкли к такому приему в автофикшне, однако проза Бонч-Осмоловской крайне далека от этого типа письма.
Аннотация к книге обещает “жутковатые сказки”, но проводить прямые параллели и с классическими сказками — фольклорными или авторскими — всё же не стоит. Писательница охотно работает со сказочными образами и мотивами (их немало в книге), но сказками вообще-то не ограничивается. Её поломанные истории могут быть о чем угодно, в том числе о войне, а оптика меняется довольно часто — от гиперреалистической до антиутопической в духе Сорокина. В поэтических текстах тоже находятся самые разные сюжеты, хотя их функционал в большей степени — поддержка общего настроения, скорее, мрачного, чем какого-либо иного. В любом случае, эти нарушающие любую логику рассказы, распадающиеся на глазах сказки и странноватые поэтические тексты много говорят о современности и реальности человека, так или иначе связанного с тем, что происходит за тысячи километров от его острова.
Я дошла до обрыва. Уже опускается солнце. Я люблю встречать закат на обрыве, глядя в зеркало ядовитой воды. Совсем другой, холодный пожар. Спокойно и тихо. Птицы все попрятались, заснули в кустах. Всходит луна, освещает старые камни.
Я не люблю один только этот час, когда снова, как тогда, до плана А, кричат камни, кричат отовсюду: мы оставляем наши дома, мы оставляем здесь колыбели, мы оставляем дома, оставляем могилы, мы оставляем дома, сожгите все ради нашей свободы, сожгите наши дома, когда придет враг, мы на время оставляем дома, будьте ласковы с нашей землей, когда падет неприятель, мы скоро вернемся.
Лариса Муравьёва. Написано в Западном Берлине. shell(f), 2025
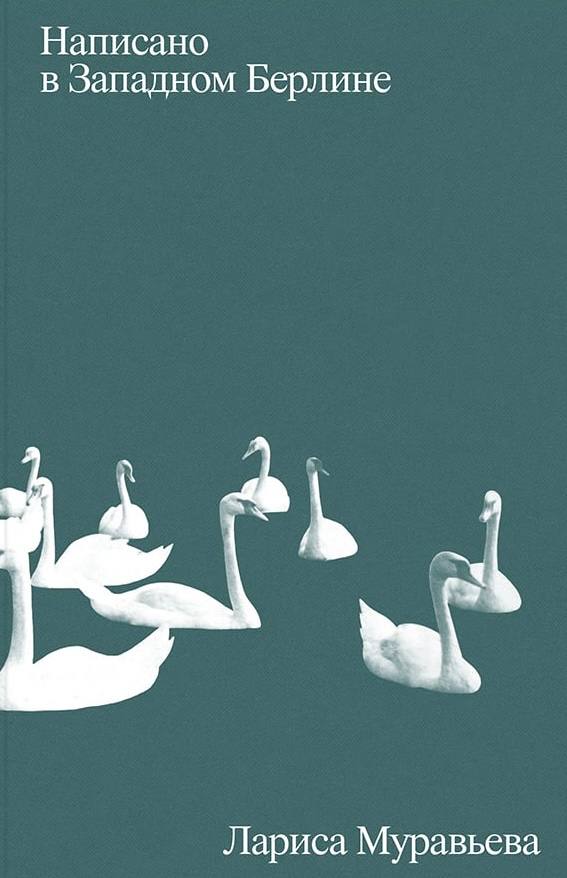
И снова к автофикшну. При всей очевидности темы, релокантского автофикшна за три с лишним года войны создано немного, да и тот все больше поэтический, рассеянный по отдельным текстам и публикациям (впрочем, об одной прозаической книге мы скажем ниже). Лариса Муравьёва написала полноценную прозу, объединив в ней три локации: петербургскую, родную, где авторка жила, росла, училась и состоялась как литературовед и преподавательница в университете; израильскую, куда ей пришлось переместиться с мужем после начала мобилизации и где произошла как бы пересборка большой семьи и переоценка отношений с отцом; и берлинскую, заявленную в названии книги, потому что именно в меланхолическом Берлине, давшем новую работу по специальности (Муравьева теперь преподает курс “Практики автофикшна”), но обрекшем на одиночество, и была написана эта книга. Фоном двойной релокации стали две эмоционально вовлекающие войны — в Украине и в Газе — и потоки новостей, формирующие и усугубляющие травму невольного свидетеля, в которого в принципе превратился каждый, кто подсел на скроллинг новостных каналов.
Из свербящих новостей, навязанных передвижений, нестабильных состояний — вплоть до дереализации — и эпизодических размышлений о литературе и состоит мастерски скроенный, практически образцовый автофикшн Муравьевой.
Я просыпаюсь и смотрю на голубеющее небо. За окном тихое послерождественское утро. Во дворе-колодце тихо, плывущие облака отражаются в окнах мансарды дома напротив. Вчера я гуляла по тихому Берлину, шла вдоль канала, переходила мост через Шпрее. За час ходьбы мне встретилось от силы три-четыре человека, по их виду было ясно, что все они торопятся в гости. Я не спешила, мне было некуда спешить. Стояла, смотрела за одной из застекленных витрин на громадную елку, искала, не встретится ли снова енот, рассматривала балконы на домах вдоль реки. Мне хотелось унять чувство тревожности, но оно не уходило. Оно разъедало меня изнутри, предсказать его приход невозможно.
Александр Ильянен. Домик няни. Freedom Letters, 2025
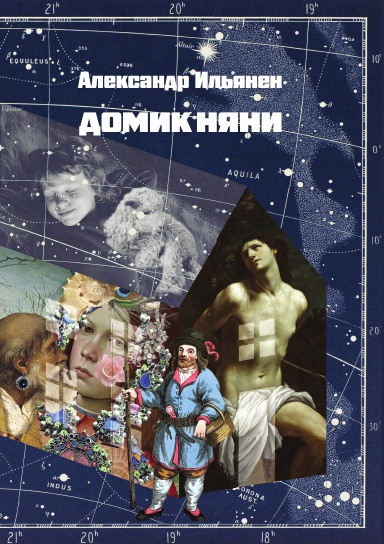
Мне кажется, Александр Ильянен мог бы спокойно выпустить эту книгу в России, если бы его имя и его творчество не были окутаны флёром квира. Квира в этой книге, однако, нет или почти нет, но, вероятно, в конце концов никто не будет разбираться, что там “дяденька одинокий” делает или не делает в огороде, как это происходит в одной из сцен “Домика няни”.
В принципе, новый Ильянен верен самому себе и много уже лет пишет своего рода дневники наблюдений, перемещений, размышлений и восприятия искусства, принципиально не сшивая записи сюжетом или даже сколь-либо линейным повествованием. Сам он говорит о дзуйхицу, японской короткой прозе, фиксирующей всё мимолетное, что приходит в голову. Однако более всего его тексты напоминают именно дневники (скажем, Михаила Кузмина минус любовь к теплоте материального мира, быту) и свидетельствует о том, что автофикшн нынешних тридцатилетних — отнюдь не нечто уникальное в литературе на русском языке, в 1990-е, а тем более в 2000-е всё уже было. В любом случае проза Ильянена — модернистский проект длиною в жизнь, и сравнивать его хочется более всего с Прустом и в принципе любимыми Ильяненом французами с их культом одинокого сознания, настороженно наблюдающего за самим собой.
Новая его книга, собрание записей последних нескольких лет, фиксирует приметы времени: пандемии коронавируса и, хотела написать, войны, но война дана только намеками. И еще эта книга насквозь пропитана Петербургом — его ландшафтами, культурой, аурой и людьми. До такой степени, что субъект этой прозы, постоянно фланирующий по городу или целенаправленно перемещающийся на электричках (куда-то вплоть до Выборга), перебирающий в уме высказывания классиков или контактирующий со своим, так или иначе привязанным к городу, кругом литераторов от Лиды Юсуповой до Влада Гагина, выглядит как настоящий рафинированный дух места.
В один из дней Всемирной пандемии, на Святой неделе, посетил доктора в районе Сенной пл. Спускаясь в метро почувствовал себя как Зази-в-метро. Оттого что долго не ездил. Сенная поразила своей до сих пор не виданной красотой: без телег с сеном, ларьков, стонов и криков девушки (Девушка Сенной пл.), тишина и огромное небо. Прекрасное жемчужного цвета.
Суббота св. недели. Из репродукторов голос увещевает сидеть дома. А в это время погода говорит “иди погуляй” (по-фр. погода это время le temps. Напр. La pluie et le beau temps)
“Кассирша ласково твердила Зайдите миленький в барак” (Мих. Кузмин)
Илья Данишевский. Дaмоклово техно. Freedom Letters, 2025
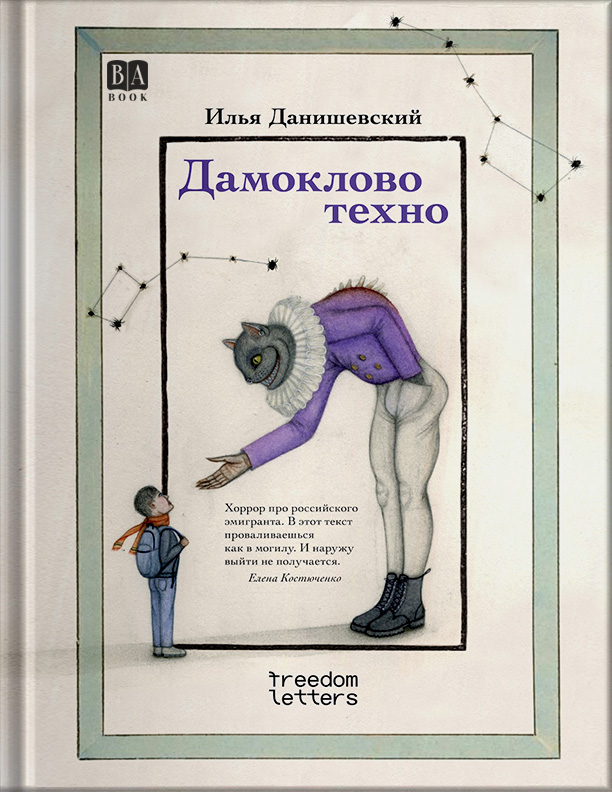
Проза Ильи Данишевского также уходит корнями в модернизм, однако он иного извода, чем у Ильянена. В случае Данишевского скорее стоит вспоминать трансгрессивную линию письма от Генри Миллера до Кати Акер, не забывая, что в российских контекстах её не единожды актуализировали на страницах “Митиного журнала” и изданий Kolonna publications (собственно, и выпускавшего книги Акер). Стоит вспомнить и икону русской квир-культуры 90-х Ярослава Могутина. С этими вводными проза Данишевского, местами еле отличимая от поэзии, становится не то чтобы более прозрачной, но объяснимой и в плане нарочитого физиологизма, и автофикциональности, и повышенного градуса фантазматичности, подчас разрушающего предустановленные реалистические настройки такого письма.
В конкретном случае перед нами релокантская квир-история (кстати, напоминающая об азулянтах и прочих героях Андрея Иванова, что лишний раз убеждает, что литература развивается по спирали), которая включает в себя несколько вставных новелл с необязательными, однако затейливыми, не без фантастических элементов, сюжетами. Так что квир-бытовой Берлин здесь подсвечен гротесково-иррациональным светом.
Макс чувствовал, что его штаны мокрые от спермы, а рукой он глубоко в кармане зарослей шерсти на животе Феликса, тот тяжело дышит ему в ухо, потому что влюбленный кончает вместе с возлюбленным, потому что так принято, рука Феликса крепко сжимает шею Макса, слишком крепко, до следов, Феликс целует его в висок, как на прощание, как поцеловал бы, когда придет время возвращаться в Россию, — и что будет тогда?
Елена Глазова. Исповедь приманки. NRS, 2025

Роман “Исповедь приманки” рижской и чрезвычайно популярной в балтийских широтах поэтессы Елены Глазовой действительно более всего похож на исповедь. По крайней мере, рассказчица и героиня, существующая в мире, где правят деньги и секс, пытается быть предельно искренней, хотя бы по отношению к самой себе: вот ее неудачные попытки “продаться” циничным европейским мужчинам, получить бонусы от того, что она молода и привлекательна, а вот — первые серьезные отношения с почти сверстником, неловкий секс и полное непонимание, что делать с этим дальше. Авторка, впрочем, пересобирает себя и свое прошлое по мере того, как в ее жизнь приходят идеи феминизма. В тексте щедро цитируются живые классики фем- и квиртеории — от Джудит Батлер до Поля Пресьядо — и делаются всевозможные па в сторону современного искусства.
В принципе, перед нами угловатый автофикшн с феминистским уклоном, но я бы выделила два отличительных момента. Во-первых, “Исповедь приманки” ценна, как минимум, исторической точностью, детальностью в описании 1990-х – 2000-х, когда часть постсоветского пространства начинает осознавать себя Европой, но бедность, преступность, безработица по-прежнему повсеместны. Елене Глазовой удалось живо и убедительно показать место и время, сделать своего рода фотографические снимки “себя 20 лет назад”. А во-вторых и, может быть, в самых главных, перемежают эту прозу поэтические тексты, — и они по-настоящему завораживающие.
Я ничего такого не собиралась делать, хотя один клиент во время платного чата огревал меня чем-то вроде: “Эй, почему ты не трогаешь себя? I came here to see how you stroke your pussy!” Но это никак не влияло на моё поведение, я продолжала вести с клиентом светскую беседу. Он терял интерес и выходил из игры. Кажется, на тот момент я даже не видела никакой аудиовизуальной порнографии, только эротику, показываемую по телевизору, я не знала, что именно предполагается делать на камеру для удовлетворения клиента.
за деньги дешевле, чем за чувства
рефрижираторная вежливость
в случае денег
она ни к чему не обязывает
в ином случае человек, что-то вручающий
ожидает некий эквивалент,
незримый заменитель
самоутверждение, результат
маркетингового исследования
дружеская привязанность, твоё тело
или родственные чувства
мать хочет получить взамен твой эмбрион
ей льстит чувствовать себя беременной
и т.д.
прозрачное гелевое тело фабрикуется
в процессе обмена
вместо денег гелевый двойник повиснет
на ладони
вот уже чувственным обязательством
запахло в воздухе
это твоё антитело, стремящееся к дарящему
не столкнись сам со своим антивеществом
что же ты врёшь, что бесплатно
не хочешь ли ты выманить что-то
что-то невидимое