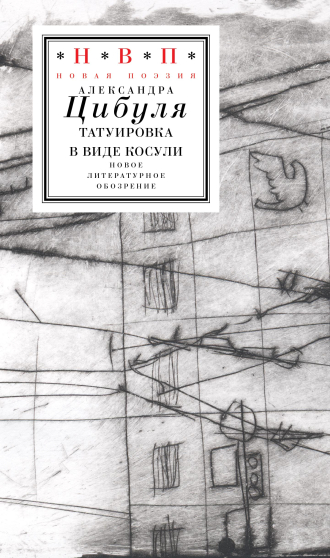
Александра Цибуля. Татуировка в виде косули: Стихи 2021–2024. — М.: Новое литературное обозрение, 2025. 120 с.
Буква войны, составленная из цветов: Станислав Снытко о книге стихов Александры Цибули “Татуировка в виде косули”
Недавно в издательстве “Новое литературное обозрение” вышла книга стихов Александры Цибули “Татуировка в виде косули: Стихи 2021–2024”. Об этом сборнике и эволюции в творчестве Цибули написал Станислав Снытко.
Первое же стихотворение задаёт меланхолическую тональность всей книги. Виртуальный взгляд совершает пробежку по городу, в котором “нас” нет, по любимым местам, где никто из “нас” никогда уже не окажется — не потому, что это физически невозможно, а потому что “нас прежних” не существует:
тебя нет в баре “хроники”
тебя нет в баре “залив”
тебя нет на катке в парке культуры и отдыха
тебя нет в цветочном горшке: там только еловые иголки
тебя нет в графине с кипячёной водой
тебя нет в чайной кружке
тебя нет в переулке ульяны громовой
да и склада “нло” там тоже давно нет
нет “пирогов на фонтанке”, нет “мишки”, нет “тихого хода”
нет “холи вотера” на некрасова 36, укромность которого
позволяла “склеить собеседника”, исчезая из “хроник”
нет нас прежних, нас нет в парке сосновка у дерева
на самом соблазнительном свиданье моей жизни
и если ты сейчас пройдёшь мимо
ты шарахнешься от меня, как от привидения
из две тысячи четырнадцатого
из две тысячи семнадцатого
из две тысячи девятнадцатого
из две тысячи двадцатого
(с. 10)
Это стихотворение — эпитафия Петербургу, каким он был до начальной хронологической отметки книги, 2021 года. В некотором роде вся книга — эпитафия, подчас в буквальном смысле: мы застаём героиню Цибули обводящей кистью буквы на могильной плите, под которой покоится родной человек. Эпитафия близким людям, которые нас покинули: просто отдалились, или предали, или ушли из этого мира. Эпитафия “лучшим в мире вещам”, которые “исчезают навсегда”. Книга — о том, в частности, как принять эти разрывы, монтажные стыки судьбы, в которых, как пишет Цибуля, вздрагивает сердце. Как принять осиротевшее пространство и продолжать жить среди улиц, дворов и комнат, служивших вместилищем чего-то любимого:
<…> Прийти туда,
где было что-то важное, но ведь мы знаем,
что дело даже не в Девушке с веслом,
хоть её и бесконечно жаль,
прийти к этому отсутствию, чтобы найти
парящие над водой воротца,
эолову арфу, пустой постамент.
(с. 11)
Пустой постамент, меланхолический “ноль-объект” Петербурга первой половины 2020-х годов, его портрет создаёт в своей книге Цибуля, — портрет влюблённый и нелицеприятный. Который раз в истории город воспринимается петербуржцами как опустевшее место любви, как египетская гробница, и сколько бы солнц — по словам Мандельштама — мы в нём ни похоронили, возвращение туда невозможно. Чтобы это понять — можно уехать, можно не уезжать, — разницы никакой.
Вопреки тому, что говорится в аннотации, ни хрупкости, ни уязвимости — если судить о качествах поэзии, а не о поверхностных мотивах — в этой книге нет. Общее впечатление от сборника, где не встречается ни одного стихотворения, которое можно было бы снисходительно пролистнуть, ни одного случайного или необязательного поэтического жеста, — трезвая сила и “адамантов костяк” новой поэтики, опирающейся на опыт предшественников (Л. Шваба, М. Ерёмина, С. Стратановского, А. Глазовой, М. Гронаса, А. Драгомощенко), но вызревшей и самостоятельной. Голос, взявший ответственность за каждое слово, освободившийся от групповых конвенций, прежде всего — аутического щебетания, недооформленной “внутренней” речи, рудименты которой ещё встречались в предыдущей книге “Колесо обозрения” (2021). Для чёткой поэтической дикции Цибуле потребовалась не хрупкость, а “отважная самобытность” (по выражению Екатерины Захаркив на задней стороне обложки).
За десятилетие, прошедшее с выхода первой книги “Путешествие на край крови” (2014), манера Цибули не менялась радикально, но претерпела значимую эволюцию. В середине 2010-х годов, когда ей присудили Премию Аркадия Драгомощенко, её стихи выглядели вызывающе аполитичными и далёкими от “актуальной” поэзии, как бы эта “актуальность” ни трактовалась. В них не было ни самокритики поэтического высказывания (в наиболее востребованных тогда неоконцептуалистских формах), ни явных отпечатков стилистики патрона премии, Аркадия Драгомощенко, ни отчётливых заявлений о своей персональной идентичности. На поэтической сцене Петербурга Цибуля выглядела как персонаж Антуана Ватто, по прихоти случая попавший на заседание марксистского кружка. Есть некоторая ирония в том, что спустя десятилетие именно она, прециозная поэтесса из Эрмитажа, пропустившая через сердце тёмный романтизм Гёльдерлина и экстатический модернизм Паунда, оказалась наиболее восприимчивой к ядовитым сквознякам истории.
Точка зрения Цибули на историю — это взгляд свидетеля. Ей удалось найти оригинальную форму для того, чтобы свидетельствовать, как деградирует среда обитания, как город, который всегда разговаривает с человеком, один за другим выдаёт сигналы злокачественного поражения социального организма. Как знаки пропаганды, распространяемые не только централизованно, но и стихийно, подобно инфекциям по кровотоку, коверкают домашнее пространство. Как последняя буква английского алфавита захватывает Зимний дворец и воцаряется над городом. Можно возразить, что это “всего лишь” свидетельство. Но не будем забывать, что историческое свидетельство требует мужества, поскольку быть свидетелем и свидетельствовать — далеко не одно и то же.
Свидетельство не предписано Цибуле извне, оно является внутренней потребностью и адресовано прежде всего ей самой в будущем и лишь во вторую очередь — кому-то ещё. Когда в первом стихотворении она повторяет как мантру: “тебя нет в баре… тебя нет на катке… тебя нет в цветочном горшке…” и тому подобное, — она, по всей видимости, обращается к себе же, расслаивая себя на хронологические отрезки прошлого. Это расслоение рождает столь характерную для Цибули меланхолию. Свидетельство для неё — диалог свидетеля с самим собой сквозь время.
Петербург без голубей мира, оголённый до гнетущей отчётливости, с мельчайшими элементами дворов и парков Приморского района, с городскими обывателями в свитшотах “С нами бог”, с белкой, грызущей георгиевскую повязку, — всё это освещено холодным светом исторического сегодня. Героиня Цибули — одинокий прохожий, “частный человек”, который движется по городу и глядит по сторонам с влюблённым и тревожным вниманием. Таковы маленькие силуэты прохожих, бредущих вдоль Невы, на картинах Владимира Гринберга и других корифеев ленинградской пейзажной школы 1930–1940-х годов. В этой живописи, как и в стихотворных прогулках Цибули, чувствуется острое переживание времени, остановленного в городском пейзаже и заполнившего, залившего этот пейзаж до краёв, та же сердечная теплота и, вместе с тем, то же подбирающееся из-за горизонта, подступающее к горлу предчувствие катастрофы.
Эта параллель из истории искусства не случайна, поскольку “машины-призраки” коллективного бессознательного циркулируют по магистралям, проложенным во времена Гринберга: “Потайной Сталин на станции Нарвская, на трибуне, / исполненный энтузиазма <…> Дерзкий, / заносчивый Сталин на лобовом стекле фуры, / вдруг оказавшейся в моём квартале, как машина / времени или машина-призрак…” (с. 49). Городские зарисовки Цибули — достоверные, как документальная фотография, камерные, как живопись Гринберга или Николая Лапшина, но жёсткие в деталях, как гротески Вагинова и обэриутов:
Лающая старуха на Фурштатской улице, всегда
в одном и том же месте, как привязанный пёс,
выходит из-под арки и останавливается у двери.
Сначала я искала свору собак и не находила источник
звука, потом увидела, как она дёргается при виде
проходящих школьников и производит комбинированный
спектр тонов всем телом, от вопля до бульканья; прежде
бы её подвергли обряду экзорцизма, теперь
изменилась социальная норма, не принято бросаться
на пол, пускать слюну изо рта, демоны трансформировались
в панические атаки, головокружение, обмороки, обсессивно-
компульсивные практики. Поэтому её жест
кажется вопиющим, как будто она летает на метле
над снегом, изрыгая шурупы и гвозди, как исландский
вулкан с фольклорным названием Фаградальсфьядль,
проснувшись однажды утром после беспокойного сна.
(с. 35)
Не секрет, что зловещая старуха — коренной житель петербургской мифологии от пушкинской “Пиковой дамы” до “Старухи” Хармса. В позднесоветском Ленинграде старуха “из бывших” символизировала героический пассеизм и сопротивление маразму официальной идеологии. Новое озверение старухи, утрата ею человеческого облика (не случайна цитата из “Превращения” Кафки в последней строке), — оживлённый в миниатюре симптом всеобъемлющего бедствия, которое в книге Цибули названо не только иносказательно.
Памятным засечкам о циклах политического регресса сопутствуют отметки о собственной поэтической эволюции. В “Колесе обозрения” Цибуля считала необходимым оглянуться, как бы украдкой, из-за плеча, посмотрев в зеркало: “Я больше не думаю, что поэзия должна быть непрозрачной, / она должна быть строгой и доверительной” [Цибуля А. Колесо обозрения. СПб.: Jaromír Hladík press, 2021. С. 31.]. В “Татуировке…” она даёт самой себе новый отчёт: “Неинтересны стихи, которые понятны. В конце / концов, до тебя дойдёт: выбор определяется / только влечением…” (с. 107). На поверку никакого противоречия между непрозрачной поэзией и понятными стихами для Цибули не существует: при всей изысканности этой поэзии, для неё характерно не сгущение поэтических средств, а их натуризация; движение не на поверхности формы, а по ту сторону. Отсюда и прозаическая интонация речи, сбросившей формальное снаряжение стиха (причём как традиционное, так и компрессионно-герметическое), и манера разрывать слова — оставлять на строке одну букву, игнорируя не только оформление переносов, но и условия анжамбемана (расчленение отдельного слова превосходит полномочия синтаксиса, а следовательно, и анжамбемана). Стихотворение определяется не резкостью инструментовки, а аффективным орнаментом.
Подобно татуировке, давшей название книге, каждое стихотворение — созвездие уколов: нательный рисунок, пусть и в виде животного, принадлежит к сфере культуры, но расплатой за татуировку становится физическая боль. Глубоким уколом, то есть punctum’ом, в одном тексте может оказаться мумия лягушки, в другом — внезапно оголившийся пупок, в третьем — марка печенья из детства. Мембрана, которую преодолевает punctum, отделяет лирическую героиню не от читателя, а от другой версии себя. Одна из загадок поэзии Цибули в том, что, питаясь энергиями аффектов, она сохраняет дистанцию по отношению к читателю и не предлагает очередной искренности, не требует оценки личного опыта как уникального или солидарности с этим опытом. Цибуля находится в парадоксальной позиции абсолютной открытости — и отстранённости. По отношению к читателю она соблюдает корректную дистанцию точно так же, как её лирическая героиня — к белкам, котам, цветам или чужим детям. Она предпочитает всё замечать — позволяя вещам просто быть. Близость к Другому она ценит не так уж дорого по сравнению с гораздо более глубоким, метафизическим в своём истоке, переживанием, открывающимся в акте любви: “Вещи происходят впервые, если разрешить им случаться. <…> В первый раз моего лица с нежностью касаются ступни и пальцы ног, я не испытываю брезгливости, несмотря на свойственную мне ипохондрию. Я замечаю, что желание действительно способно создавать эффект ‘влажного взора’, и твои глаза в темноте напоминают две светящиеся капли <…> Теперь я могу говорить открыто. Меня подводит лишь факт того, что честность едва ли совместима с соблазном” (с. 14). Любовь и секс — последний бастион личного, не отравленный насилием, но так дело выглядит только на первый взгляд: воскрешая память о прикосновениях к любимому телу или погружаясь в феноменологию спермы, Цибуля лишь яснее указывает на то, от чего этот хрупкий телесный опыт никого уберечь не может.
Нередко стихотворение Цибули представляет собой субъективный каталог примет времени. В этом смысле интересно сопоставить её стихи с поэтическим методом, выработанным в предыдущую историческую эпоху, в годы стабильной апатии и гиперпотребления, — с сериальными циклами Дмитрия Голынко (1969—2023), один из которых так и назывался, “Приметы времени”. Модель стихотворения как ячеистой структуры, составленной из молекул многоголосого социального тела, находит у Цибули не прямое продолжение, но композиционную аналогию. Знаки времени и обломки социолектов — “фрагменты большой истории”, как называл их Голынко, — объединяются в каталоги личной фрустрации, угасающей интимности или назревающей агрессии. Голынко занимал позицию антрополога и социального лингвиста, нагнетающего назойливые медийные клише, новояз лакшери-моллов и заплёванную феню подворотен до апогея какофонии. Цибуля, напротив, выделяет только и именно такой материал, который задевает её лично — ранит или помогает создать резервацию тепла. Её притягивает мерцание “простых вещей”, которые “ещё вибрируют” в холоде современности, перекраивающей в том числе и клише: “Этично ли писать ‘цветение — / это взрыв’, когда они пишут / ‘хлопóк’?” (с. 92).
Разнообразие ботанической коллекции, собранной в “Татуировке…”, поразительно: в книге встречается без малого полсотни видов цветов, кустарников и деревьев. Цветы для Цибули — предмет любовного разглядывания, воплощение разнообразия и ранимости природы. Уже не символ эроса, как в первой книге (“Тюльпаны и их капризные половые губы, их непристойная просьба / Вообще бесстыдство цветов, но и безгрешность” [Цибуля А. Путешествие на край крови: Стихотворения. М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2014. С. 18.]), но абсолютный объект, позволяющий себе роскошь самодостаточности посреди мира, которому вечно чего-то недостаёт. Цветы — напоминание о том, что сердце мира всё ещё бьётся. Мистическая флористика Елены Шварц (“Зверь-цветок”) и сюрреалистические грёзы Василия Филиппова, главного специалиста по цветочной образности в петербургской поэзии, присутствуют в читательском опыте Цибули, но наиболее значимой для неё оказалась интерпретация животного и растительного мира как обладающих отдельной, независимой от человека агентностью, предложенная Анной Глазовой (главной собеседницей Цибули).
Очень символично название книги стихотворений Глазовой “Для землеройки” (2013) — поэтическое приношение подземному зверьку, которое трудно представить в лирике XIX века, где животные представляли собой не столько биологические сущности, сколько символы (вспомним “Оду соловью” Китса). Риторическая форма приношения (предлог для) отсылает к ещё более ранней эпохе — XVIII веку, когда поэтам надлежало делать приношения самодержцу (в России чаще — самодержице) или влиятельному покровителю, но никак не животному. Коронованная землеройка Глазовой учитывает эту предысторию и осознанно размещается подобным провокативным образом. Нечто похожее происходит и у Цибули, которая давно уже возвела на престол своей поэзии городскую белку, которая “забирается на трубу, / попадая из мира природы в сферу культуры, / чтобы увенчивать крышу и стать / майской графиней” (с. 88). Очевидный прообраз — белка Рататоск из скандинавской мифологии, снующая вдоль мирового древа, посредница между “верхом” и “низом”, а в стихах Цибули — между природой и культурой.
Наряду с цветами Цибуля собирает птиц, имена, цитаты, причудливые уличные сценки, городских животных, редкие или уродливые слова (шуга, снежница, фланкировать, валёры, крашиха). Её притягивают выморочные, забытые на обочине предметы. Она принадлежит к благородному кругу петербургских коллекционеров, чьё пристрастие становится сначала творческим методом, а потом и способом жизни. В любом собирательстве важно не то, что одни собирают минералы, другие — цветы, а третьи — “самиздат с трансгрессивным / содержанием, про гангрену и акротомофилов, напоминая, / что все мы вышли из ‘Козлиной песни’ с её собирателями и диковинами” (с. 88). Всякий коллекционер собирает прежде всего самого себя. Для Цибули это не просто поэтический метод, но и способ сохранить внутреннюю свободу в условиях, когда свободе внешней предписаны жёсткие пределы. Некоторые стихотворения будто устроены специально таким образом, чтобы повторять эмоциональную ауру произведений “народного концептуализма” [Подробно о феномене «народного концептуализма» (термин Тимура Новикова) рассуждает искусствовед и художник Андрей Хлобыстин в книге «Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины ХХ века» (СПб.: Борей Арт, 2017. С. 309—336).] — абсурдных граффити, аппликаций из мусора, спонтанных натюрмортов, концептуальных телодвижений, детских алтарей, плюшкинских тайников и тому подобного:
Мягкие игрушки в оттаявшем сквере, грязные
и жуткие после зимы, сало, развешанное на ветвях,
не съеденное синицами в холодные месяцы, перья
разодранной птицы и пробивающиеся сквозь них
бутоны, хвойное дерево с обрезанной верхушкой,
кто-то взял её в качестве маленькой ёлочки-инвалида,
без ног, в дом, ради нескольких дней праздника.
Теперь на растущем вширь безголовом обрубке
серебряная льдинка-сосулька из советского прошлого.
Безжалостно растоптаны первые цветы гиацинта,
возможно, невинными лапами тусующегося в этой
клумбе кота, мастера маскировки цвета земли.
По почерневшим и квёлым наледям он уходит прочь
по своим делам через арки малоэтажных коттеджей,
возведённых пленными немцами в первые
послевоенные годы из чего попало, подручных
стройматериалов на развалинах мирной жизни.
(с. 47)
Никакого “проекта спасения” не предполагается, за исключением редких отдушин, которые Цибуля с характерным для неё фразовым остранением называет “нежными практиками”. По-видимому, ей кажется, что такого проекта лучше не иметь вовсе, нежели полагаться на очередной его суррогат. Между лающей старухой, потерявшей человеческий облик, и комаром-караморой, который “на подоконнике сам сложил себе пирамиду-склеп / длинными ножками” (с. 54), она пытается сохранить третью возможность, тропинку для кота, стратегию выживания “маленького писателя-бобыля”, оберегаемого стоической триадой: “нищета, мужество, свобода”.

