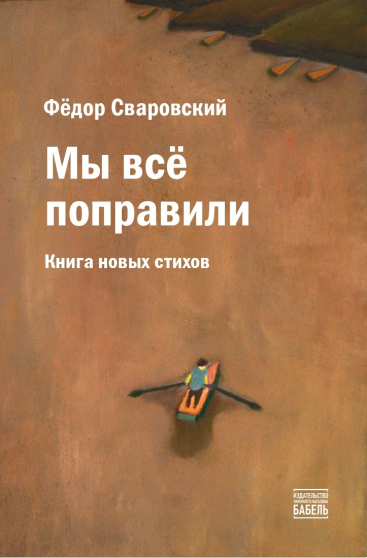
Федор Сваровский. Мы все поправили. Тель-Авив: Издательство книжного магазина "Бабель", 2024.
"Где-то в космосе посредине моря": Юлия Подлубнова о книге стихов "Мы все поправили" Федора Сваровского
В Издательстве книжного магазина "Бабель" (Тель-Авив) вышла недавно книга стихов Федора Сваровского "Мы все поправили". Юлия Подлубнова написала текст о поэтике Сваровского — от манифеста "нового эпоса" в 2007 году до "Мы все поправили".
С той поры, как в 2007 году в альманахе “Рец” был опубликован манифест “нового эпоса” и провозглашены “реактуализация лиро-эпической формы и тенденция к системному нелинейному высказыванию в русской поэзии последних лет”, прошло достаточно времени, однако Федор Сваровский, автор этого манифеста, по-прежнему верен существенной части заявленного как некоторому кредо. И — чем дальше, тем очевиднее. При том что эта верность не исключает предъявления новых возможностей и граней того, что представлялось уже зафиксированным в поэтической форме и легитимированным в литературном пространстве. Казалось, все уже сказано пятнадцать, а то и двадцать лет назад, но Сваровскому, узнаваемому чуть ли не с первой строки, по-прежнему удается, в принципе не изменяя себе, держать читателя в напряжении, какое предполагает встреча с новым. Можно не понимать, как сделаны его тексты, но сложно не ощущать, что они сделаны на пределе поэтических возможностей, а подчас и заходя за эти пределы.
Что касается сборников, то Сваровский их выпускает не часто, каждый из них можно назвать долгожданным. Такое положение сложилось после выхода “Все хотят быть роботами” (2007), без которого невозможно представить новейшую поэзию и который, по факту, стал не менее значимой манифестацией “нового эпоса”, чем эссе, напечатанное в “Реце”. Сборник “Мы все поправили”, в который вошли тексты последних лет, — не менее долгожданный и важный для понимания того, куда движется Сваровский, хотя предыдущий — “Беспорядок в саванне” (2021), выпущенный тем же “Бабелем”, — многое уже обозначил и за эти несколько лет существенных сдвигов не произошло.
Как несколько сумбурно декларируется в “Реце”, “новый эпос” подразумевает “повествовательность и, как правило, ярко выраженную необычность, остроту тем и сюжетов, а также концентрацию смыслов не на реальной личности автора и его лирическом высказывании, а на некоем метафизическом и часто скрытом смысле происходящего, находящемся всегда за пределами текста” [Сваровский Ф. Несколько слов о “новом эпосе” // Рец. 2007. № 44. С. 3–4]. Стоит вычесть из разговора метафизику, за которой обычно зияют концептуальные пустоты, и поставить на ее место более развернутый пассаж: “новоэпические авторы практикуют не прямое смысловое, а системное, нелинейное высказывание, когда сумма образов, выраженных в тексте, выявляет некое общее ощущение, некую общую мысль, которая может быть в том числе и невысказываемой, и постигается только при полном прочтении текста” [Там же. С. 4]. И вот — пазл сложился. Цель поэзии, в понимании Сваровского, — вернуть художественному высказыванию силу (силу воздействия на читателя, в первую очередь); ее средства — повествовательность, сюжетность, заход на территорию фантастического и экзотического (т. н. “необычность”), нелинейная образность и т. д. Эта теория закреплена практикой: многие замечали балладность “нового эпоса”, работу с топикой фантастического и условно литературного. Илья Кукулин точно написал про “несобственно-прямые образы” и “обобщенную войну” (травматический опыт), которая мерцает, например, за историями о роботах. Я бы их даже рассматривала как постмодернистский извод колониальной романтики или поэзию битв и походов, переосмысленную постколониально (сюда же подшивается проблематика человеческой идентичности в условиях торжества постгуманизма) и перенесенную на другие планеты и в некоторые другие миры.
Эволюционирующий Сваровский, как демонстрирует “Мы все поправили”, ушел от балладной сюжетности и в принципе от жанровости. Его тексты приобрели хаотическую статику: в них нет движения, выстраивающего единую фигуру и обеспечивающего общее развитие, но каждый элемент действует внутри своей логики. Если искать следы жанров в этой поэзии, то обнаружатся фрагменты и sci-fi (в новых текстах периодически фигурируют все те же роботы), и приключенческих нарративов (экзотические страны и ландшафты), и травелогов эпохи научных открытий (оптика чуть ли зообеллетриста), и даже автофикшна, поскольку Сваровский допускает читающих (впрочем, весьма дозированно) и в свой черногорский быт, и в пространство личных воспоминаний.
в параллельный мир
я перешел в возрасте четырех лет
летом 1973 года в теплый день
когда меня укусила оса
дядя Валик приехал к нам на дачу из Риги
на новой машине и
потом мы поехали
к нам домой —
праздновать день рождения бабушки
От романтической балладности, романтической поэтики как таковой здесь остается онейризм: грезовость, логика сновидений и иновидений, что иногда, в виде некоторого обещания, проявляется во внезапных расфокусировках зрения и переключениях зрительных режимов (“по краю воды уходит толстый старик / под руку с осьминогом // если надеть очки — / молодая женщина / с ребенком”), но фактически становится основой сюрреалистической образности Сваровского (“грезим же наяву: // мы с женой оба брюнеты в кожаных штанах / работаем в патруле времени / и мы про-пу-ска-ем гитлера / потому что задерживаемся в туалете / избивая вантузом пожилого путина / переодетого в беременную женщину”).
Сюжетность как линейное развитие истории, состоящее из совокупности действий, ведущих к завершающему результату, также уходит в прошлое — новые тексты статичны, их сюжет составляется из динамики отдельных элементов и состояний субъекта. А их совокупность монтирует те самые “общее ощущение” и “общая мысль”, которые, как подчеркивалось в манифесте, могут остаться в зоне невысказанного.
И вот пример.
мы же наблюдали бессмысленных
зверей:
черные в горошек как платье
со смешными задами рыбозверые птицы
надувшись сидели
на плечах наглых сотрудниц концерна
позирующих для газеты
летающая собака с небольшим воздушным
шаром в очках с выпадающим левым глазом
двадцать пушистых простуженных без
наименований
кошка экспериментально перепутанная со змеёй
охотящаяся сама на себя
гигантские каменные муравьи
невидимые лисы
О чем этот текст — почти что перечень, представляющий собой фрагмент небольшого цикла? (Сваровский мыслит особыми циклами, где каждый пронумерованный элемент — часть одного большого замысла, то есть перед нами, скорее, нелинейный текст, разбитый на части). Что здесь объединяет зверей, кроме сюрреалистически искаженной оптики натуралиста? (Деятельного путешественника со сломанным бластером в руке в поэзии Сваровского уже давно заменил фантазер-оператор, любопытный ко всем формам жизни). Автору, кажется, важнее очертить, обозреть само пространство, где происходит мелкое копошение жизни, чем выстроить какую-то прошивающую его фабулу.
Такого рода обзоры нередко выглядят герметичными и самоцельными, и Сваровский, думаю, невольно, оказывается в зоне метареализма, заставляя вспоминать, как минимум, пространственные опыты и фрактальное зрение Парщикова. Но есть и существенное отличие: Сваровский менее всего заворожен холодным миром предметов и цепочками их трансформаций. Его пространства населены разнообразной жизнью.
Может быть, поэтому они зеркалят друг друга: космос и море, космос и земля людей и зверей и т. д. Они взаимодействуют друг с другом, перетекают друг в друга, проблематизируя границы как нечто очевидно неустойчивое, иллюзорное, хотя и не исчезнувшее и ощущаемое в случае их сдвига. “подводный кот вкрадчив / деликатно / постукивает по плечу утопленника / или аквалангиста / задает множество малозначимых вопросов / обстоятельно / рассказывает о течениях, температуре / и прозрачности воды / ему не доверяй / он шизофреник / делающий серьезные выводы / из отговорок и неловких умолчаний”. Или вот еще пример: нарушение принципа зеркальности лицевой стороны и изнанки, стирание их границы. “в вывернутой на другую сторону реальности / движения вовсе не были зеркальными а / дачи со всем содержимым просто / стояли на берегу моря / включая лопаты”.
Кроме кипения жизни, триумфа флоры и фауны в мире искажающих зеркал, в поэзию Сваровского допущены вполне человеческие чувства, преображающие механику происходящего, чего тоже практически нет у метареалистов (да и у иных новоэпиков, вроде А. Ровинского или Л. Шваба, тоже почти нет). При том что субъект Сваровского весьма подвижен и транформативен и частое “мы” оказывается в этой поэзии голосом то условного человечества, то людей, имеющих общую цель или общее прошлое, то вообще в некоторой своей части — не людей, и тогда снова обозначается проблема границ, на сей раз — в процессе сборки идентичностей.
мы вообще не болеем
по лесным тропам пропахшим горелой кашей
домой
ударяя в землю ногой и другой
босиком
<…>
под видом торговли веревками немного
торгуем недвижимостью
виденной в голове
во сне
<…>
слава тебе наш
двор посередине моря
Тем не менее за любым сваровским “мы”, влекущим за собой в постгуманистическую утопию или в катастрофу, мерцает субъект, который не просто вовлечен в происходящее как наблюдатель или актор, но имеет функционал производителя аффектов, тех самых человеческих чувств, и довольно понятных — от иронии и самоиронии до меланхолии и ощущения энтропии пространства.
в принципе все что мы видим проснувшись
вонючая серая грязь
существует большая возможность
что день начнётся с голоса —
ну-ка давай, вылазь
на небе опять ни облака но все равно
какой-то там грохот вдали
да и во рту по утрам у мертвых
не яблоки — комья
сухой земли
(“Киев с растянутым “и”“)
В авторских регистрах эта установка на производство аффектов превращается в лирическую надстройку, никогда, впрочем, не взаимодействующую с трансгрессивной исповедальностью. Поскольку за всем этим стоит одна цель — через нелинейно собранные, сюрреалистические образы дать ощутить то, что не высказано, но что только рождается в процессе высказывания. Это, пожалуй, одинаково далеко от прямоговорения или умолчания как известных литературных приемов и напоминает алхимическую реакцию с непредсказуемым, но всегда магическим результатом. И подобной магии, судя по новому сборнику, у Сваровского становится только больше.

