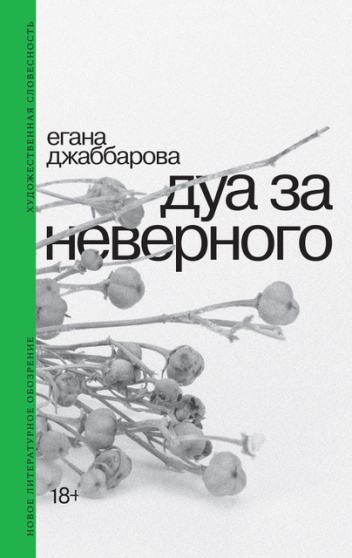
Егана Джаббарова. Дуа за неверного. М.: НЛО, 2024
“Мой брат был Россией”: Евгения Вежлян о книге Еганы Джаббаровой “Дуа за неверного”
Я совсем ничего не знала о своем брате, мой брат был пацан с района, гопник, тот самый, которого все боятся, с кем никто не решается оказаться в запертом лифте. Мой брат был веселый мальчик, всегда улыбался, по-видимому, любил ходить в баню и хорошенько выпить. Мой брат был подсобный рабочий, строитель, он шабашил то там, то сям, ходил грязный, мечтал купить себе классную тачку, был подписан на группы “Автомобили” и “Авторазбор, запчасти”.
Так пишет Егана Джаббарова в своей книге “Дуа за неверного”, которая когда-нибудь войдет в канон русскоязычных деколониальных текстов. При всей ее внешней простоте (обманчивой, разумеется) в ней происходит работа по трансформации литературной субъектности, переприсвоению литературного говорения и той иерархии художественных точек зрения, которая инерционно воспроизводится в русскоязычных текстах начиная с XIX века. Причем простота, легкость, тихость и лиричность этого письма являются частью трансформации, деколонизирующей письмо на русском языке, создающей его новый — поверх литературного канона — вариант.
Когда после Бучи стали говорить о социальной природе происходящего, прозвучала мысль, что все это сделали те самые отморозки и дворовые хулиганы нашего детства, для которых насилие — часть габитуса, и закономерно, что теперь, когда им сказали “можно”, они просто ведут себя естественным для себя образом. При попытке понять воюющего субъекта, представить его, написать о нем его субъектность терялась, и оказывалось, что для этого есть только иерархический язык, на котором возможно отстроится от виновных, подчеркнув свою непричастность указанием на принадлежность к культурному слою, моральные установки которого несовместимы с насилием. Казалось, только так — иерархически дистанцируясь, отстраиваясь, исключая себя из ряда, объективируя, — и можно говорить об этих Других. Иначе получаются пресловутые “наши мальчики”...
Собственно, здесь возникает тяжелая, унаследованная русской литературой от исторического прошлого, тема, которая когда-то звучала как “народ и интеллигенция”, а теперь, кажется, перестала иметь название. Говорение “о народе” — это уже некое насильственное определение, дающее власть над определяемым. Сам факт такого типа письма о тех, кто не то чтобы лишен, но не рассматривает возможности публичного рассказа о себе, потому что эта возможность его габитусом, его жизненным миром не предусмотрена, ощущается как апроприация, властная стратегия, подразумевающая цивилизаторство, спасение через “приобщение” к “культуре”, а то и вовсе этически сомнительное этнографическое всматривание в ноуменального Другого (о чем рефлектируют, в частности, Анастасия Вепрева и Роман Осьминкин в своей “Коммуналке на Петроградке”, показывая в тексте проблематичность затеянного ими эксперимента, в том числе этическую). Такое письмо вполне наследует традициям русской классики и отдает аристократизмом, который в этом случае встроен в дискурс, помимо воли говорящего. С письмом “от имени народа” обстоит еще хуже, в силу исторических причин. “Простые пацаны” Прилепина, люди массы (или люди из народа?), введенные им в литературу в противовес “привилегированным” интеллектуалам девяностых, теперь сражаются в Украине. А интеллектуалы девяностых вместе с молодыми левыми 2000-х, ни в чем с ними не согласными, пытаются выживать и даже что-то делать в политической эмиграции. Обстоятельства российской истории XX века складывались так, что граница между угнетателями и угнетенными стиралась и сдвигалась многократно, и к началу века двадцать первого любая попытка включить в литературу “народ”/“массу”/ Другого стала задачей, которую нужно решать осознанно и специально, особенно после 24 февраля 2022 года. Нужны новые основания говорения.
В книге Джаббаровой ничего не сказано о войне. Но война угадывается в затексте, она определяет круг вопросов, превращающих историю жизни и смерти незаконнорожденного “русского” брата героини, сына иммигранта-азердбайжанца, работающего на оптовом рынке, и пьющей русской женщины, в метафору современной России, в диагноз ее предвоенному состоянию. Жанр книги определяется как автофикшн. Это означает несколько вещей. Первая — это установка на невымышленность, а значит, на предельную и прямую ответственность текста перед внетекстовой реальностью, вторая — особые отношения со временем: прошлое в автофикшн обязательно связано с настоящим через сам момент письма.
История, которую рассказывает Джаббарова, начинается в тот момент, когда в доме ее родителей появляется Серега, случайный сын ее отца. Его мать села в тюрьму, и на это время попросила отца забрать мальчика. Брат, крещеный, осознающий себя русским, выросший среди материнских попоек и “воспитанный” материнскими собутыльниками, не просто прижился в среде, ему чуждой, но стал настоящим любящим старшим братом для героини и ее сестры.
Их идентичность сложней, чем у брата. Они — мусульманки, дети мигрантов, выросшие в Екатеринбурге и уже считающие русский язык родным. Вырастая, они абсорбируют в себя и русскую культуру, ее смыслы и язык, но навсегда остаются в пространстве “между”, смотрят на родную и приобретенную культуры и изнутри, и извне. Это двойное зрение входит в конструкцию авторской позиции, также сложно устроенной и многосоставной.
Авторке принципиально удержать при рассказе все свои идентичности/роли/ипостаси. Дочь мигрантов, она традиционно для модерных обществ использует высшее образование как социальный лифт, становясь кандидатом наук, преподавательницей вуза. Но в постиндустриальном обществе, которым является современная Россия, социальный лифт снизу вверх не работает. Образование дает ей голос как культурную привилегию, переводит ее в иной культурный класс, но и только. Экономически же она лишь пополняет ряды прекариата, а ее происхождение мешает ей найти работу. Обретенный ею голос — это голос угнетаемый. Это голос Другой среди Других, невключенный, и к тому же женский. Такой голос вырастает не из суперпозиции, а из позиции субалтерна и чужака; он нарушает молчание и в то же время проводит границу между пишущим и его средой. Такой голос одинок и ничем не защищен от нападок, от отрицания:
Для большей части семьи новость о том, что я пишу стихи, была удивительной: они не понимали, зачем я это делаю, зачем превращаю личное в публичное, разворачиваю грязные простыни и замачиваю их в мыльной воде обыкновенной жизни, а главное — даю осмотреть чужим. В процессе письма белая простынь покрывается текстом, как кожа простуженного сыпью, и при приближении я с ужасом осознаю, что теперь каждый может увидеть ранее скрытое тканью.
То есть тут практика письма как апроприации переворачивается: не чужое присваивается ради создания “произведения”, а произведение становится процессом открывания своего — “чужакам”, болезненным и чреватым не обретениями, а утратами.
Письмо субалтернов, женское письмо обнаруживает уязвимость пишущего, но выводит его из состояния невидимости:
Мое письмо еще и женское, а потому могу предположить, что его откровенность, интимность и дневниковость будут обращены против меня острыми наконечниками обвинений. Конечно, скажет мужчина, они только и могут, что писать о своих чувствах. Конечно, скажет он, они манипулируют чувствами окружающих, они спекулируют смертью, будто ею не торгуют все на каждом углу. Мужчинам так хочется упаковать наши слова в маленькую коробку из-под обуви, замотать скотчем и убрать на балкон, подписав "неважное", — разве история отдельно взятой жизни и смерти может быть чем-то значительным, на фоне большого шершавого тела истории и ее высунутого языка.
Это письмо о частном, оно движимо чувствами, телесно и противопоставлено большой русской литературной традиции:
Иногда я думаю, зачем писать о себе или близких, когда можно писать о чем-то глобальном и большом, но потом понимаю, что история отдельно взятого мальчика Сережи или история моей семьи — родинки на теле государства. Родимые пятна истории, угнетения и умирания не одного, а многих. Об этом легко забыть в большом городе, где нужно выживать, об этом легко никогда не помнить.
Только так и можно рассказать историю Сереги, который, при наложении контуров мира этого произведения на другие литературные миры, оказывается тем самым “хулиганом из подворотни”, представителем “глубинного народа” (берем это словосочетание в двойные кавычки как дважды чужое). Он хочет быть только русским, “как все”, он берет несуществующее русское отчество и фамилию матери, а когда мать возвращается из тюрьмы, он уходит к ней и исчезает из жизни своих сестер. В его новой “русской” жизни, с друзьями-пацанами, выпивкой и мечтами о тачках и деньгах им не оказывается места. Так что, когда он умирает в своей комнате в одиночестве от цирроза печени и полиорганнной недостаточности, его друзья, пришедшие на похороны, не знают, кем ему приходятся эти люди — отец и две темноволосые девушки. Но он продолжал все это время переписываться с ними скупыми месседжами, больше похожими на точки и тире, не на слова, а на паузы между словами, как будто вообще обходился без языка. Он оказывается не только “тайной” семьи, но и загадкой, которую нужно разгадать (“Я совсем ничего не знала о своем брате”, — пишет Джаббарова.) Смысл этого разгадывания в том, чтобы увидеть за непрозрачными социальными оболочками этого “пацана” и “гопника”, который, если бы дожил до февраля 2022 года, пошел бы в армию и погиб бы на войне (об этом тоже есть в книге), того “веселого мальчика”, который любил и которого любили; в том, чтобы наполнить пустоты морзянки его “неязыка” — словами.
Может быть потому, что слова выполняют в этом тексте особую роль — озвучивают то, что обычно требуется замалчивать, и дают название вытесняемым из публичного пространства вещам, — Джаббарова не оставляет читателю шанса не понять ее. Сюжет становится метафорой, и эта метафора тут же раскрывается авторкой. Писать о Сереге — это значит писать о России:
Мой брат так ненавидел свою нерусскую часть, что весь стал Россией, большой русской хтонью, пах водкой, землей и нефтью, жил в самом страшном общежитии, где в коридорах лежат наркоманы, ходил в церковь, мечтал воевать. Мой брат был Россия, со всей ее огромной судьбой, страшной смертью, большими венами на руках, в строительной пыли. Мой брат был Россией, и она съела его, не подумав и не осознав, без перца и без соли. Мой брат умирал в маленькой комнате вонючего общежития, он не кричал от боли, потому что слова закончились, не начавшись: он не успел оплатить мобильную связь.
Отделиться от этого не выйдет, дистанция — невозможна. Эта как бы простая, однозначная конструкция оказывается сложной и амбивалентной. В ней не может быть виновных, в ней субъект неотделим от объекта, и все действующие лица — жертвы. В основе жизни, которую описывает эта конструкция, лежит насилие и угнетение. Но и они обоюдоостро направлены и на насильника, и на жертву.
В сущности, называя книгу “Дуа за неверного”, Джабарова обозначает ее второй — и главный — план. Он тоже не спрятан, он на поверхности, но на такие вещи в подобных текстах обычно все же не обращают внимания. Решив писать о Сереге, она приезжает в Екатеринбург из-за границы, где работала, потому что только здесь можно сделать то, что она задумала, — воскресить его в слове, найти его душу и вывести ее из неизвестности и небытия. Фактически она словом своим ныряет за ним, заглядывая по ту сторону, в мир мертвых. Ее Екатеринбург — это, конечно, трансцендентный Екатеринбург поэтов уральской поэтической школы, чьи строчки разбросаны по тексту, — город говорит ими. Это и есть тот язык, которым обладает это пространство и который принадлежит всем, кто населяет его. Слова этого языка — буквально порталы между миром мертвых и миром живых:
Земля впитывает нас в себя как мясо — бактерию сальмонеллы, чтобы затем бесконечно порождать подобных ей. Наверное, поэтому никогда не закончатся поэты: один, исчезая, оставляет в почве эту странную потребность — говорить без практической надобности. После смерти все они, говорящие без цели, оказываются вместе — в антологии для мертвых, больше им недоступны слова вслух, только наблюдение за теми, кто еще способен производить речь без усилий. Они, мертвые, завидуют живым ртам, подбирают их слова и коллекционируют удачные предложения, чтобы затем выставить в галерее. Подходят почти вплотную к полотнам, чтобы незаконно провести пальцем по еще пульсирующему слову. Тщетно пытаются вспомнить строки, написанные ими при жизни, и, не способные, выходят покурить. Какой след после себя оставило тело моего брата, что породит земля, приютившая его последней?
Этот отрывок перекликается с другим, где мертвые передают живым посылки со строчками своих стихов. Героиня Джаббаровой ходит по Екатеринбургу как Орфей (или Данте) по Аду, и оставляет об этом подсказки читателю. То Исеть превращается в Стикс, то над переходом она видит надпись: “Древней меня еще не тлели кости, я вечность ниспадаю в темноте, вошедшие мной чаяния бросьте” (характерно, что здесь заключена и тонкая игра с реальностью: над этим переходом действительно есть такая надпись, она часть хеппенинга, посвященного Цою, то есть цитата становится тройной).
Поэзия, так понятая и обоснованная, наделяющая голосом тех, кто не может говорить, открывающаяся, подставляющаяся, и есть дуа (заупокойная молитва) за неверного, за того, за кого молиться нельзя, с кем невозможно было разделить жизнь, но с кем общими становятся боль и смерть. В пространстве поэзии соединяются две несоединимые заупокойные молитвы — православная и мусульманская. Серега — Россия/народ/мужик/пацан/немой Герасим — по крайней мере в этом тексте обретает голос и находит спасение.

