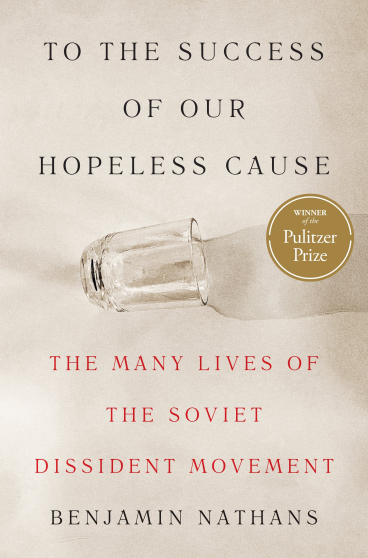
Сергей Бондаренко о книге Бенджамина Натанса “To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement” (“За успех нашего безнадежного дела: пути советского диссидентского движения”)
По ту сторону победы и поражения
Любящая бабушка в анекдоте 1970-х годов перестукивает на печатной машинке для внука “Войну и мир” — он читает только самиздат. Полвека спустя книга о советских диссидентах — в лучших советских традициях — выходит на английском языке и получает Пулитцеровскую премию. У двух историй одна мораль на двоих: ну что ещё нужно сделать, чтобы мы это прочли?
Может быть, стоит начать с рецензии на 800-страничную книгу от 84-летней Шейлы Фицпатрик, которая вспоминает о своих первых впечатлениях от диссидентства как явления на примере своего отца, писателя и бузотера, основателя Австралийского совета гражданских свобод:
“Я выросла с внутренним ощущением того, что диссидентство, хотя и достойно глубокого морального восхищения, по большому счету является выбором определённого образа жизни — весёлого для самих участников, тяжёлого для членов их семей. Для людей, считающих себя демократами, они на удивление мало интересовались взглядами ‘обычных людей’, а их порой безответственные попытки провоцировать власть на ответные действия вполне могут показаться одновременно и высокомерными, и ребяческими”.
Выбор образа жизни (lifestyle choice) — что читать, что слушать, с кем спать, какую машину водить (чьи машины жечь). Как говорил из другого угла планеты и другого времени, но о том же самом советский диссидент Арсений Рогинский: “В 1968-м они сжигали машины своих родителей. У наших родителей не было машин” (а у многих не было и родителей — погибших на войне, сгинувших в тюрьме или лагере). Сложная система причин и следствий, культурных несовпадений, сдвигов и апроприаций — в самом центре глубокого и сложного исследования, которое предпринимает американский историк Бенджамин Натанс, рассказывая свою версию происхождения и эволюции советского диссидентского движения.
1
Натанс много пишет о “цепной реакции” — это ключевая метафора в книге, образ и объяснительная модель, само словосочетание повторяется в ней 68 раз. Оно кочует из цитаты в цитату, превращается в главный рефрен и попутно напоминает о том, как много людей диссидентского круга имели естественнонаучное или физико-математическое образование.
“Для Литвинова, Горбаневской, Богораз и других диссидентская цепная реакция составляла идеальный modus operandi. Спонтанная, неиерархическая, основанная на разуме, она позволяла всем участникам принимать решения свободно и самостоятельно — как, когда и с кем нужно защищать права собственных сограждан. Другими словами, это давало возможность каждому внутри себя взвесить ценность автономного действия и личного участия в движении — одновременно составлявших и цели, и средства их достижения”.
Первые публичные акции зарождающегося правозащитного движения — общественная кампания в поддержку арестованных писателей Синявского и Даниэля в 1965 году — цепная реакция, пошедшая от плохо просчитанного решения официальных властей не только арестовать, но и устроить показательный судебный процесс.
Но почему сама эта поддержка вообще оказалась возможной? Почему, если вплоть до смерти Сталина политический арест автоматически означал и публичный остракизм, и изоляцию (если не арест) близких арестованного, то в хрущёвское время, наоборот, по цепной реакции приводил в движение всё новые группы сочувствующих?
Натанс если и не предлагает новых ответов, то делает нечто более важное — по-новому формулирует вопросы. Что изменилось? Только ли дело в смерти Сталина и XX съезде? Как были выстроены новые цепи солидарности, взаимовыручки от ранних 1960-х и позднее?
Можно ли описать эту эволюцию через переход от сбора подписей под открытыми письмами властям ко всё более масштабной циркуляции текстов в самиздате? Означал ли этот переход большую универсализацию движения? Может ли вообще эта сложная система связей, выстроенная в разнообразных (в том числе и иерархических) конфигурациях, быть описана как единое, целостное “движение” — по классической аналогии, скажем, с движением за гражданские права в США того же времени? Ведь если, как говорил Эбби Хоффман, “движение — это то, что движется” — а советские диссиденты по большей части сидели друг у друга на кухнях, в то время как на декабрьских выходах на Пушкинскую площадь в Москве было больше агентов в штатском, чем митингующих, — то куда же они двигались?
В рецензии NY Times этот вопрос разрешается через обратную аналогию: “В либеральных демократиях слово ‘движение’ вызывает перед глазами образы массовых манифестаций, пикетов и рабочих стачек — борющихся против несправедливых законов. По контрасту с американской традицией советские диссиденты сделали ставку на ‘радикальное гражданское повиновение’ <...> …Как пишет Натанс: ‘Они делали вид, что советская конституция — это закон, по которому в этой стране нужно жить’”.
2
Легализм Александра Есенина-Вольпина, который первым самым контринтуитивным образом предложил требовать не “свободы” для Синявского и Даниэля, а гласного и открытого судебного процесса над ними, рифмуется с другим важным для Натанса рефреном: советские диссиденты — это прежде всего люди, сформированные советской же системой. Их ценности, основание их гражданской позиции состоят не в отрицании несправедливости законов, а в бескомпромиссности их соблюдения.
Отсюда популярность жанровых путеводителей по миру советского правосудия — текстов того же Есенина-Вольпина или подпольных бестселлеров Владимира Альбрехта “Как вести себя на обыске” и “Как быть свидетелем”.
В хипповском контркультурном разделении hip vs. square — людей, “врубающихся” в свободы по ту сторону законов, и людей, живущих по “официальным” (то есть ложным) правилам, — диссиденты занимают абсурдную, ситуационистскую позицию. Они стремятся жить по официальным правилам, по которым в реальности никто не живёт. Сложность, вычурность этой позиции Натанс и стремится проблематизировать, демонстрируя в более поздних главах всю внутреннюю противоречивость этой практики. Система дружеских кружков, больших семей, характерные гендерные роли — всё это зачастую не менее консервативно, чем любой извращённый советской властью благословенный закон из сталинской конституции 1936 года.
И вновь, Натанс важен здесь в своей позиции постороннего, аутсайдера, описывающего систему извне. Это положение претендует на “объективность” не больше любого другого, однако неотменимая дистанция (времени, языка описания) делает общую картину более остранённой и законченной.
В конце концов, у диссидентского легализма есть немало общего с самурайским кодексом, “Хагакурэ” [Характерно, что текст “Хагакурэ” был создан в конце XVII – начале XVIII века, при расцвете сегуната Токугава, когда гражданские войны с участием самураев по сути прекратились больше чем на два столетия. — С. Б.]. Действовать, “как будто советский закон существует”, можно с тем же успехом, как “если бы ты уже умер”. И то и другое имеет потенциал в какой-то момент оказаться правдой — однако трудно не заметить, что одно из этих утверждений значительно сильнее укоренено в реальности и здравом смысле.
3
Давайте сыграем в две игры:
- что мы свободны;
- что “законы” в нашем государстве — законы.
Оба примера уверенно предполагают, что мы вырвем поражение из цепких лап победы. “Если выиграть невозможно — необходимо красиво проиграть”, — писал о таких случаях Владимир Альбрехт. Но значит ли это, что и проиграть — это тоже немножко выиграть?
Выходом на Красную площадь в августе 1968 года (“организованного в традиции американских sit-inов”), если верить Анатолию Якобсону, небольшая группа диссидентов “спасла честь советского народа”. Значит ли это, спрашивает Натанс, “что и честь также может быть коллективной — так же как грех, чувство вины и ответственности”, а всё вместе — полное бинго, составляющее “экономику морали”?
Выбор между описанием диссидентского движения как этического или политического — ещё один вопрос без необходимости поиска ответа. “Победили” ли диссиденты советскую власть? Умерла ли она своей смертью от тысячи ударов, нанесённых ей зафиксированными в “Хронике текущих событий” собственными преступлениями? Срубили ли большое дерево маленькими топориками Буковский и Марченко? Новодворская? И может быть – как сказал один из моих коллег: “Лишь уничтожив Мемориал, Путин смог начать войну в Украине”? Или победы как таковой в этом движении не существует, и мы все — персонажи не Кафки, а Анны Каван — должны лишь “отважно страдать и тем самым посрамить наших мучителей”?
Позиция Натанса за четвертой стеной осторожно предполагает, что перманентно промежуточным результатом может быть не “победа” или “поражение”, а опыт — который, как пишет он, в какой-нибудь момент может оказаться востребован. И, вероятно, сейчас мы находимся если не в моменте обретения этого опыта, то в тоске по нему — иначе сложно понять, почему книга о сравнительно небольшой группе людей в исчезнувшей более тридцати лет назад стране читается с такой надеждой, в поиске знаков, другой системы координат — по ту сторону победы и поражения.

