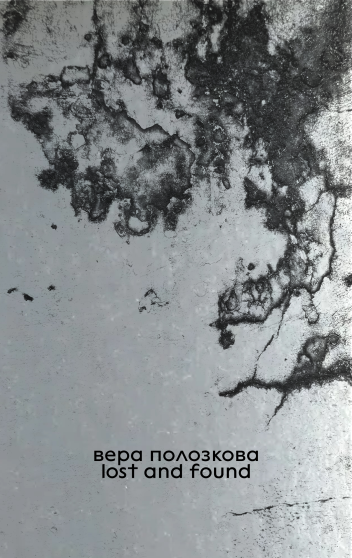
Вера Полозкова. Lost and found. Bratislava: Vidim Books, 2024
Река не играет. Лев Оборин о книге Веры Полозковой “lost and found”
В издательстве Vidim Books в прошлом году вышла новая книга стихов Веры Полозковой “lost and found”. Литературный критик и поэт Лев Оборин написал для нас рецензию на этот сборник.
Новая книга Веры Полозковой посвящена памяти матери. Мать, Алла Сергеевна Полозкова, была очень сильной и красивой женщиной — мне повезло с ней несколько раз встретиться. Очень многое в Вере от нее. Ее друзья, читатели, подписчики много знают об их отношениях — о том, как они ссорились, а потом не просто помирились, а навсегда поняли: друг для друга они самые близкие, самые необходимые люди. Разделенные географией, они оставались одним целым. В этой книге можно увидеть фотографии мамы, обращения к ней, стихи, ей посвященные.
смотри, какая ты. и ямочка у рта.
ты снова будешь та, ты для меня все та:
река густых волос и бесподобный хохот.
прости меня, что я не еду на вокзал.
как правильно, что нам никто не рассказал
в какую бросят жить и умирать эпоху.
Алла Сергеевна умерла в России, и Вера не могла быть с ней в последние дни, не могла быть на похоронах. Горечь, злость и ужас, которые это вызывает, отчетливо слышны в книге “lost and found”, но слышно и другое: тяжело давшееся умение работать с этими чувствами и безоговорочное их признание у других (“о, ты не один в аду отвержения”). Название книги, понятно, — языковой штамп, но особого рода: не бюрократическое растягивание, а сокращение “по делу”. Игра с таким штампом — вмешивание в него дополнительного смысла. Потери и находки, утраты и обретения: можно бы сказать, что из этого и состоит жизнь — но не факт, что говорить такое уместно, когда совсем рядом другие жизни бесцеремонно записываются в графу утрат или когда от жизни отрываются целые куски, и это еще можно счесть за везение.
Черта поэзии Веры Полозковой — освоение сильным голосом ясных тем, опыта индивидуального, но легко соотносимого с чужим; отсюда, собственно, такой отклик, вполне себе сродни терапии, который уже почти два десятка лет порождают ее стихи (в подтверждение этого эффекта тут напечатаны некоторые разговоры с читателями в инстаграме: “так это устроено у меня с моей аудиторией. мы друг друга удерживаем от отчаяния”). Формальные решения ее стихов, на фоне множества экспериментов современной поэзии, вполне консервативны, но выбраны осознанно, в соответствии с темпераментом поэта и знанием своих сильных сторон. Это “освоение ясных тем” можно сравнить (договорившись, что в таком сравнении нет какого-то особого пафоса) с фантастической гидрологией, тем более что морских и особенно речных мотивов в книге много. Как если бы река могла выбирать, куда течь, и сегодня путешествовала бы по одной равнине, завтра по другой, а послезавтра прокладывала бы путь между гор и холмов.
Впрочем, это сравнения мирного времени. В “lost and found” поэт не отворачивается и не уворачивается от мыслей о войне, от ненависти к тому, что ее породило. Река — и быстрее, и холоднее, чем раньше, — знает, что думают подхваченные ее потоком: “река меня отволокла / и выкинула на излучине”; с одной стороны, “все наши рынки из песка / театры из песка / мы исчезаем в полброска / когда вода близка”, с другой — “пара имен / проявляется на песке”. К своему прежнему миру она бережна, дорогие воспоминания она приспособила к новым температурным условиям:
и если я люблю, то я спешу:
в блокнот прохладный по карандашу
своих перевожу, переселяю,
вихор бунтарский, белозубый рот —
здесь не предаст меня и не умрет,
но будет утешать меня, сияя.
Еще цитата: “я клянусь, что мы одолеем тьму, что недолго ей пировать. / я клянусь, что прорвусь вопреки всему дорогую голову целовать”. Это напоминает о позиции, манифестированной в недавней книге Елены Фанайловой (одного из важнейших для Полозковой поэтов) “За моих любимых”: собственно, переживание войны и ненависть к ней обретают конкретные, адресные измерения, потому что война, развязавшая ее власть, поддержавшие ее вчерашние знакомые посмели грозить твоим любимым. Им нужно успеть многое сказать, о них нужно сказать громко. В “lost and found” включено несколько старых текстов, преимущественно 2008 года — значит, уже тогда, во время войны с Грузией, эта необходимость прорывалась и становилась очевидна. Точно так же блюзовые обращения к маме из 2012-го сейчас читаются по-другому.
Художественное и биографическое умеют по-разному сливаться — чаще всего это происходит тайно, подповерхностно, подковерно, и литературоведы правы, ставя очевидность связи под сомнение. Но экстремальная ситуация обнажает эту связь. В предыдущей книге Полозковой “Работа горя” было заметно движение в сторону от “я-высказывания”, было высказано желание “стать никем, / камер видеонаблюдения двойником” — это желание совпадало с актуальными тогда векторами “головной” русской поэзии, в контексте которой стихи Полозковой, как правило, не осмыслялись. А потом со дна постучали, и “я” вернулось — как инстанция, из которой стихи говорятся, как необходимость совпасть с собой и поддерживать “своих любимых”, свое любимое. Такое говорение может быть, как и раньше, делегировано персонажу — но между нынешними стихами и напечатанными здесь будто бы для наглядности текстами про Бернарда, Говарда и прочих героев несуществующего сериала чувствуется настоящее зияние.
это мои детские книги, что навсегда утрачены.
и соседи, в старые простыни запеленуты.
если слезы текут, значит, я говорю со зрячими.
если в горле встают, значит, с ослепленными.
я считал, что война в кино, а она вдруг вон чего.
разминировать труп, зарыть и не слышать вонь его.
чтобы рассказать этот яд, придется занять у волчьего.
у змеиного. у вороньего.
Или же слова просто покидают: “все о чем я пела, что мне учить задавали на дом / выбито снарядом, накрыто 'градом'”; “черные коляски, вывески: / котлован. / мои руды, мои прииски, / где слова — // все полгода тлеют язвами / от ракет / оттого лежит неназванным / этот свет”. Можно было бы и тут усомниться в уместности (у кого-то не прииски слов тлеют, а, собственно, сама жизнь) — но, с другой стороны, кто же будет “называть свет”, если поэт — в потрясенном молчании; кто же станет вспоминать самое на этом свете необходимое (от жгутов и анестетиков до детских рисунков)?
У поэзии на русском языке — достаточный опыт рассказывания яда и ада. Часто помогает отстраненность, констатация над бездной: от дробных, сухих стихотворений Волошина 1920-х и Сатуновского 1940-х до ремиксов языка бюрократической смерти в “Приговорах” Лиды Юсуповой. Эта отстраненность, приоткрывающая ужас, была в некоторых стихах, написанных сразу после 24 февраля 2022-го — например, “Вот дом, / который разрушил Джек” Марии Ремизовой. В “lost and found” такая интонация тоже есть: “так щелкает будто бы крабья клешня / и вдруг закипает война, мельтешня / и люди бегут, опадая плашмя / и дети плашмя / и коровы плашмя / над склоном, огнем закишевшим кишмя”. Но все же основная интонация в этой книге связана с жанрами, которые приютили лирическое “я”, когда поэты стали от него отворачиваться: роком, рэпом (“и федоров и цой / поются до утра”; тут есть и несколько текстов, где узнается оксимироновский флоу). Эти стихи можно пропеть — “песни, что никого не свергли / не спасли и не воскресили”. Пристанище местоимений первого лица, песня переходит от “я” к “мы”; даже сообщает некоторую легкомысленность тяжелым вещам:
когда война закончится, мы все
придем прилечь на взлетной полосе,
с которой унесли и не отдали:
соседей, однокурсников, старух,
июльский смех, заученный на слух
и вывернутый вместе с городами
С одной стороны, это звучит на манер “и растащили плиты со взлетной полосы” у Высоцкого, а с другой — вызывает вопросы: кто унес и что не отдал, что значит вывернутый, что значит прилечь? Возможные ответы — в другой песне: “баю-баюшки-баю, / мы не встретимся в раю: / каждый из могилы общей / едет в сторону свою”. Надежда и отчаяние — опять-таки повороты русла: то, что называется меандр. И река, постоянно пересекающая границу между этими двумя областями, конечно, мифопоэтическая — остается, что ли, рассчитывать закончить путешествие на добром повороте. Книга, по крайней мере, подсказывает такую логику.
где купить:
Babel Books Berlin
Interbok
Zdanevich
MyBiblioteka
Liberty Books Lisbon
Nauka Japan
Notre Locus
The. Bookest. World
Ruslania

