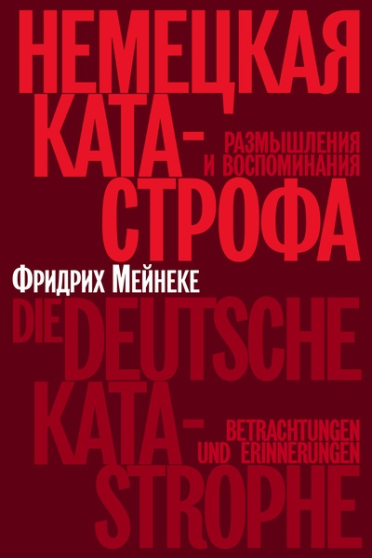
Фридрих Мейнеке. Немецкая катастрофа. Размышления и воспоминания. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2024
“Спасти нас может только какой-то бог”: Владимир Максаков о “Немецкой катастрофе” Фридриха Мейнеке
В конце прошлого года в “Издательстве Ивана Лимбаха” вышла в свет маленькая книга немецкого историка Фридриха Мейнеке “Немецкая катастрофа”. Это первое размышление профессионального исследователя о том, что случилось с Германией в 1933–1945 годах, написанное на стыке исторического труда и воспоминания. Для слов_вне_себя Владимир Максаков написал о книге Мейнеке рецензию.
Фридрих Мейнеке прожил огромную жизнь — с 1862 по 1954 — и был свидетелем четырех Германий: вильгельмовской, Веймарской, гитлеровской — и Конрада Аденауэра. Он принадлежал к тому поколению ученых, которое пыталось осмыслить современные им политические события и процессы с точки зрения “большой истории”, масштабного историко-культурного контекста. О политике он всегда писал языком исторической науки, считая ее единственной верной мерой для постижения происходящего. По своим взглядам он был консервативным национал-либералом, к сожалению, не без антисемитских взглядов, и поддержал вторжение Германии в Польшу — тем важнее его попытка понять немецкую катастрофу в 1945 году, предпринятая буквально на руинах немецких городов, когда историкам было, мягко говоря, не до того.
Перед нами действительно сочетание истории и мемуаров. И эта жанровая особенность делает здесь разницу. Встраивание себя в историю через воспоминания необходимо не только для осмысления случившегося. Это отправная точка для признания ответственности и вины, следовательно, и для нового начала — Германии и Европы. Таким образом, Фридрих Мейнеке пишет свой небольшой текст сразу с нескольких авторских позиций, что придает ему удивительный объем.
Главный исток нацизма Фридрих Мейнеке, консерватор по убеждениям, видит в XIX столетии — по его мнению, модерное общество не смогло дать убедительные ответы на вызовы национализма и социализма. Гитлер же со своим удивительным умением соединять несоединимое увидел колоссальный политический потенциал в сочетании “национал-социализм”, которое до него трудно было воспринимать иначе как оксюморон. И вот здесь великий историк, кажется, попадает в ловушку.
Дело в том, что он фактически отказывает Гитлеру в каких-либо талантах, а значит, должен предлагать так называемые “негативные” объяснения его прихода к власти. Почему, к примеру, немецкая молодежь пошла за человеком, который оказался в конечном итоге шарлатаном, только конечно очень страшным? Простого ответа на этот вопрос нет и, кажется, даже не может быть. Приходится углубляться в историю, искать историческое объяснение, которое при этом не вписывается в недавний контекст — и Фридрих Мейнеке уходит от него. Ему, безусловно, было очень важно представить Гитлера как случайность (если не как аномалию), в том числе чтобы сложить с немецкого народа бремя вины. В противном случае получается, что миллионы немцев оказались слишком уж восприимчивы к вирусу “расового безумия”, которым их заразил Гитлер.
Историк сравнивает Гитлера в том числе с якобинской диктатурой и средневековыми “монгольскими князьями-завоевателями”. Сравнение интересно своей парадоксальностью: к якобинцам возводили родословную все-таки большевики, а не нацисты, и Гитлер как раз выступал резко против французской революции — как одного из источников современного либерализма. Аналогия с “монголами” тоже удивительна, ведь именно они были той самой “азиатской” силой, ордой, против которой призывал выступать Гитлер, опять же сближая ее с большевиками.
Многие оценки Фридриха Мейнеке с годами устаревают:
Расовое безумие Гитлера не являлось истинной религией, а лишь весьма эффективным инструментом власти, который можно было отложить там, где он казался неподходящим.
С этим трудно согласиться, потому что в конечном счете вся рациональность Третьего рейха была подчинена именно “расовому безумию”. Это последнее оказалось важнее политики, социальных отношений, экономики, успешного ведения войны и в конце концов стало главным измерением нацистской политики.
Часть текста “Немецкой катастрофы” основана на пространстве слухов: Фридрих Мейнеке буквально по крупицам собирал информацию об участии своих знакомых в легендарном заговоре 20 июля. И это чувство неподлинности, кажется, служит одной из главных характеристик гитлеровской Германии — чтобы отличить правду от лжи (чаще всего связанной с пропагандой), каждый человек должен прикладывать усилия. При этом в книге есть несколько важных умолчаний: историк ни словом не упоминает о концентрационных лагерях. Знал ли он об их существовании? И если да, то почему не написал? Одно из возможных объяснений заключается, кажется, в том, что Фридрих Мейнеке вообще не видел в Холокосте самостоятельной темы: преследование и уничтожение европейских евреев было для него частью “немецкой катастрофы”. Странным образом это совпадает с уже цитированным фрагментом, где он писал о “расовом безумии”, только там он не воспринимал его всерьез, а о Холокосте просто — и красноречиво — молчал.
Один из самых необычных источников, которые упоминает Фридрих Мейнеке в своей книге — это разговоры с русскими пленными:
Известия и впечатления, которые мы получили от наших солдат или русских пленных, противоречивы. Но одно можно утверждать с некоторой определенностью: террор сам по себе не мог стать источником гигантского оборонительного и наступательного потенциала воевавших против нас масс русского народа. Из надежного источника мы слышали о неоднократных высказываниях русских военнопленных: "Мы все ощущаем себя братьями. Над нами нет эксплуататорского класса, мы работаем ради друг друга. Мы с готовностью умрем за свою Родину". Разве это просто внушенные им, заученные слова? Невозможно избавиться от впечатления, что русский народ вступил с нами в борьбу в состоянии гораздо большего внутреннего единства и национального самосознания, чем в царские времена.
Остается только гадать, откуда до консервативного “бюргера от образования” могли дойти обрывки таких весьма крамольных, с точки зрения гитлеровской Германии, сведений. Здесь опять-таки речь идет о слухах, о пересказе от вторых или даже третьих лиц, но тем интереснее, что в этих условиях профессиональный и весьма строгий историк воспринимает такой канал передачи информации как вполне адекватный и вызывающий доверие. В любом случае, даже такой слух представляет альтернативу государственной пропаганде, и оппозиционно настроенный немец хватается за него. В этом отрывке “русские” предстают противоположностью немцев еще с одной точки зрения, важной для Фридриха Мейнеке: они вдруг оказываются “внутренне едиными” и с “национальным самосознанием”, то есть отвечают представлению историка о “нормальном” консерватизме.
Большевизм кажется ему гораздо сильнее национал-социализма, хотя от его умного скепсиса и не укрылась главная историческая параллель эпохи:
Невзирая на известную, хоть и оппортунистскую симпатию Гитлера к английской мировой державе, в конечном итоге западную демократию он ненавидел сильнее, чем большевизм.
Ужас Холокоста (как и, с другой стороны, ГУЛАГа) проявляется прежде всего в “бессмысленности” жертвы: ради чего, ради какой великой идеи погибли миллионы людей? Не хочу быть неправильно понятым: традиционная жертва имеет смысл тогда, когда она приносится добровольно. Людей XX века ни о чем подобном не спрашивали. Между тем даже жертв якобинского террора еще можно как-то представить “мучениками свободы”.
Каков же выход, который указывает Фридрих Мейнеке после немецкой катастрофы? Для него он в обновлении религии и культуры. Историк прекрасно знал, что наряду с пронацистскими “Немецкими христианами” было и христианское движение Сопротивления “Исповедующей церкви”, подвиг Дитриха Бонхёффера, Мартина Нимеллера и многих других священнослужителей… Здесь его мысль совершает еще один весьма интересный поворот. Будучи консерватором, Фридрих Мейнеке не одобрял чрезмерной секуляризации, связанной в его представлении с либерализмом. Гитлеровская же идеология может восприниматься, среди прочего, и как конечная точка этой секуляризации: по мнению историка, если бы христианство оставалось “в силе”, оно могло бы не допустить прихода национал-социализма к власти:
Христианский характер прошлого, восставшего против Гитлера, следует понимать в самом широком смысле. Либерализм и демократия — вещи, которые Гитлер пламенно ненавидел, — являлись в правильном их понимании частью этого характера и могли исторически развиваться лишь на почве христианства, в результате его поэтапного расслоения и секуляризации.
О том, какую роль отводил Фридрих Мейнеке культуре в послевоенном восстановлении Германии, нельзя не сказать особо:
Мы хотели бы, чтобы в каждом немецком городе, в каждой большой деревне возникло сообщество культурных единомышленников; я бы предпочел называть их “общины Гете”… Им выпадет задача голосом донести до сердец слушателей живые свидетельства величия немецкого духа; речь идет о благороднейших образцах немецкой музыки и поэзии… Встречи могли бы проходить еженедельно, воскресными вечерами — и по возможности в церквях! Ведь религиозная основа нашей великой поэзии делает уместным, даже требует своего выражения в таком символическом контексте. В начале и конце этих празднеств должна звучать великая немецкая музыка — Бах, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс и другие.
Признаюсь, сегодня культурно-религиозная утопия великого немецкого историка воспринимается с горькой иронией. Удивительным образом, Мейнеке как бы и не задумывается о том, что корни национал-социализма можно при желании обнаружить и в немецкой культуре. Он не призывает “деколонизировать” ее. Сложно не отдать должное такое беззаветной вере в культуру своей страны. Возможно, здесь есть некий урок и для нас. Когда я писал этот текст, один умный друг подсказал мне необычное сравнение немецкого историка с русскими религиозными философами. Роднит их не только эмиграция внутренняя и внешняя, но и религиозный идеализм — как некая утопическая надежда в рухнувшем мире. Вспоминается Мартин Хайдеггер: “Спасти нас может только какой-то бог”.
И последнее. Историк Ульрих Херберт цитирует в “Истории Германии в XX веке одно из писем Фридриха Мейнеке 1940 года:
Радость, восхищение и гордость за эту армию не могут не овладеть и мной. А возвращение Страсбурга! Как могло сердце не забиться быстрее? Это поразительное и, вероятно, самое значительное положительное достижение Третьего рейха — за четыре года восстановить такую миллионную армию и дать ей возможность совершить такие подвиги.
Пройдет меньше пяти лет, и тот же самый историк напишет первое профессиональное размышление о постигшей Германию катастрофе, которое не потеряло своей актуальности и для нас с вами. И даже его самое главное умолчание — о Холокосте — звучит сегодня особенно громко.

