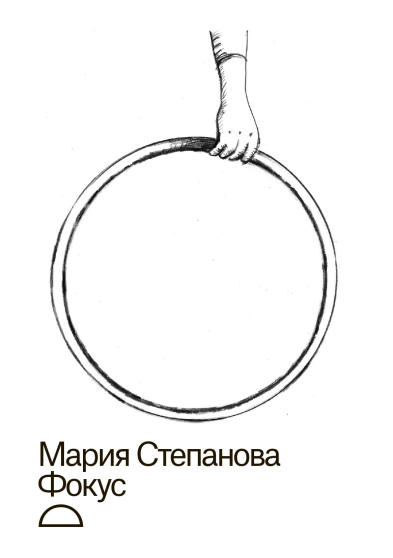
Мария Степанова. Фокус. — Стокгольм–Берлин–Тель-Авив–Ереван: Hyperboreus / Babel Books / Common Ground / Проект 24, 2024
Фокус, или Текст как escape
У Марии Степановой вышла новая книга. Она тоненькая, всего сто с небольшим страниц крупным шрифтом. Называется “Фокус”. В ней рассказывается, как некая писательница М. едет на литературный фестиваль выступать, но в силу обстоятельств так туда и не доезжает, а, наоборот, нанимается в бродячий цирк. Обсуждение книги в соцсетях показало, что, в отличие от предыдущей “большой” прозы Степановой, книги “Памяти памяти”, попавшей многим в какой-то нерв, выговорившей нечто давно искомое, этот тоненький текст ожидания ломает и даже вызывает у некоторых читателей смутное недоумение и раздражение.
Автор одного комментария, например, спрашивает, отчего этот “роман” (почему это “роман”, кто сказал?) обрывается там, где должен был начаться? Ведь интереснее всего было бы почитать про приключения героини после того, как она стала разъезжать с бродячим цирком. Это, мол, был бы отличный плутовской роман. А тут — непонятно зачем такая пропасть деталей, тормозящих действие, где же наконец story? Здесь можно ответить, что литература целью своей не всегда имеет развлечение читателя и авантюрный сюжет и что, если внимательно читать тот текст, который написан, а не который тебе хочется прочитать на месте написанного, становится понятно, что это как раз тот самый (и нередкий в мировой литературе) случай.
Но эта претензия все же не столь показательна, как другая, относительно часто встречающаяся. Ее сложнее сформулировать. И она отчасти связана с первой. Для некоторого круга читателей это, скажем так, очень привилегированный текст, авторка которого пишет об исторической катастрофе, но при этом она сама оскорбительно благополучна: у нее есть юридический статус (в стране, где она живет, она находится по приглашению, живет в писательской резиденции, возле озера с лебедями), есть материальные средства, и вся ее проблема в том, что она хочет перестать чувствовать то, что она чувствует. А что, кстати, она чувствует? В двух словах не выразить. Сложно. Но для читателей, которые видят в исходной констелляции текста лишь привилегию, все это надуманно и теряет смысл в сравнении с реальными проблемами тех, кому негде преклонить голову и не на что купить хлеба, не то что стакан белого вина, о котором несколько раз пишет Степанова (пить белое вино и смотреть на озеро — одна из спасительных привычек, формирующих теперь внешний каркас жизни героини). В сравнении, то есть, с проблемами угнетенных. Тех самых, о ком Степанова говорит вот так:
Краем глаза она заметила полицейского в полной униформе и группу граждан отчетливо нездешнего вида, стоящих вокруг понурившись и дающих ему в чем-то отчет. М. предположила, что первый вопрос задан был тот самый, что так ее раздражал, — откуда вы здесь взялись, — и посочувствовала им, не переставая шагать вперед вместе с толпой.
Собственно, лица без статуса, потерянные в мире, периодически встречаются героине Степановой по ходу ее странного путешествия. И, учитывая высокую семантическую насыщенность текста, не просто так. Стоит вчитаться, и смысл предъявляемого тексту упрека в том, что он обходит вниманием настоящие проблемы обездоленных и депривированных, теряется вовсе.
Констелляция людей, вещей и событий, которая взята в оборот текстом Степановой, оказывается слишком многосоставной, слишком сложной, чтобы проверять его качество или осмысленность соответствием автора или героя какому-то одному признаку, будь то отношение к привилегиям или принадлежность к “правильной” социальной группе. Такой подход существенно упрощает картину мира и текста. Простота эта лукава и, пожалуй, опасна.
Когда-то давно Марк Липовецкий написал статью, в которой представил литературную динамику 2010-х как борьбу двух стилевых принципов, поименованных для краткости “простотой” и “сложностью”. Ожидаемо, следование тому или иному стилевому принципу было производной от картины мира и убеждений тогдашних писателей, их отношения к травме распада СССР. На одном полюсе оказывались “новые реалисты” во главе с Прилепиным и Шаргуновым, а на другом — авторы “Нового литературного обозрения”, журнала “Воздух” и иже с ними (вот та же Мария Степанова, например). Одни, “простые”, занимались “разыгрыванием” исторической травмы, предлагая просто ликвидировать досадную историческую ошибку и вернуться к понятному советскому “исходнику”, другие, “сложные”, эту травму прорабатывали, что требовало фиксации своей позиции на шкале истории и рефлексии над ее, истории, движением, иными словами, сложнейшей процедуры приостановки участия в ходе вещей и внесения своей, увиденной извне обусловленности, в анализ этого хода. Одни хотели, провернув назад исторический “фарш”, получить исходные его ингредиенты, а другие, понимая, что это невозможно, работали над тем, чтобы понять, как этот фарш получился и что с ним вообще можно делать. Статья была озаглавлена “Пейзаж перед” — название оказалось проницательным до неприличия. Потому что прошло без малого десять лет, и “простые” поддержали преступную войну, а “сложные” были вынуждены уйти в эмиграцию — и не столь важно, внешнюю или внутреннюю. Безусловно, тревожные изменения на политической сцене долго копились и плюсовались, прежде чем перейти в фазу многоуровневой катастрофы, затронувшей и исказившей все сферы человеческой жизни и коммуникации. И пожирающая все злокачественная простота логично стала рычагом этого искажения.
В основе этого упрощения — черно-белая логика размежевания на “свой-чужой”, выводящая индивида из рассмотрения как собственно штучного, единичного: уникальные детали и черточки к делу отношения не имеют, поскольку человек нацело определяется свойствами общности, к которой он принадлежит. Этот метонимический взгляд на человека сродни классовому подходу и вытекающей из него идее коллективной ответственности. Но нынешняя история устроена сложнее. Теперь о человеке можно судить или даже человека можно судить (равно как и прощать, впрочем) по тому, где он, например, живет или на каком языке говорит. По сравнению с классовым подходом тут все намного конкретней и одновременно безысходней. Если система, частью которой ты, по месту расположения, являешься (государство ли, институция ли), скомпрометировала себя, ты за это отвечаешь. Ты там был, и значит — виноват. Логично? Да. Но смущает неумолимость этой логики: эту вину ничем нельзя смягчить, если преступление, пусть ты непосредственно в нем и не участвовал, уже совершено. На этом месте политическое измерение пересекается с экзистенциальным — и подсекает его. Ты нацело оказываешься перечеркнут тем, что случилось не с тобой и даже, быть может, помимо твоей воли.
Именно такую ситуацию описывает Мария Степанова в “Фокусе” как исходную для своей героини, писательницы М., используя для этого метафору “зверя”. “Зверь” — это родная страна писательницы, которая пожирает людей — и жителей той страны, с которой развязала войну, и собственных.
Иногда, довольно часто, она находила время и для того, чтобы убивать и собственных жителей, которые, видимо, казались ей собственными органами — взбесившимися, опасными, отвлекающими от охоты и еды —
пишет Степанова. То, что, пытаясь обозначить главную беду (или проблему, тут любое слово “проваливается”, оказывается слишком циничным и недостаточным), Степанова обращается к метафоре неслучайно. Именно метафора, как способ ухватить особенное, соединить с общим и вывести из опыта теорию (в противовес победившей власти метонимий) — способ художественного мышления Степановой еще со времен ее книги “Памяти памяти”, именно с помощью этого хода от вещи к концепту утверждает свободу мышления излюбленный Степановой жанр эссе.
Называя страну, откуда приехала главная героиня “зверем”, Степанова начинает мучительный процесс всестороннего и болезненного определения той ситуации, в которую погрузила ее героиню историческая катастрофа. Ее параметры заданы свойствами “зверя” и тем, что он делает с людьми. Надо сказать, что, несмотря на внезапное совпадение текста Степановой и стихотворения Анны Русс про кита, — это именно совпадение. У Русс в основе текста тоже сильная, амбивалентная и, судя по активности читательских реакций, — провокативная метафора, но текст Степановой писался параллельно, и зверь в этом тексте — вовсе не кит и не Левиафан, вернее, в том числе и кит, но и любой зверь вообще. Он абстрактен, не имеет выраженных признаков и формы, но зато имеет одну основную функцию — насилие и одно желание — пожирать (именно в этом смысле он не Левиафан: свойство зверя — не сила, имеющая, в числе прочего, божественное происхождение, а чистое насилие). Этот зверь, олицетворение слепого и беспричинного насилия, вечно голодный хищник, — странный оборотень: он может превращаться в пространство, совпадающее с границами страны, так что находящиеся внутри него, как в голливудском ужастике, заражаются его свойствами, или, проще говоря, звереют. Казалось бы, так воспроизводится та самая логика упрощения-обобщения, и рассуждение героини Степановой ничем от него не отличается.
Но тут имеет смысл вспомнить, что мы читаем литературный текст, где для понимания смысла небезразлично, кто говорит, что именно, почему приходит к этим, а не другим выводам, и что они для него означают. И если присмотреться внимательно, становится понятно, что авторка (не равно “Мария Степанова”, а скорее, некая наблюдающая за всей историей и записывающая ее инстанция, как об этом и говорится в одной из финальных сцен текста, где механика повествования разоблачает себя) и писательница М. — не одно и то же. Есть некий зазор между ними, вследствие которого писательница М. — это скорее объект наблюдения, чем наблюдательница. Так вот, внимательно читая, мы понимаем, что “зверская” метафора — это не утверждаемое, а, скорее, проверяемое текста, его аргумент. И текст должен его либо доказать, либо опровергнуть. Сама писательница М. захвачена этой метафорой настолько, что теряет основания для самоидентификации. Ее рассуждения о том, какое сама она имеет отношение к зверю, полны растерянности:
Многим из местных жителей хотелось, конечно, узнать о звере больше, и не только для того, чтобы обезопасить себя от его отвратительной пасти, но и потому, что крупные хищники всегда интересуют нас, травоядных, которым трудно объяснить себе, откуда берется насилие и как оно работает. Они расспрашивали писательницу М. о его привычках с напряженным сочувствием, словно она и была надкушена и даже отчасти обглодана и лишь по случайности осталась лежать на траве в относительной целости. Некоторые хотели понять, как вышло, что зверь до сих пор не убит или не съел сам себя в своей неуемной жадности и намекали, что М. и людям, которых она знала в своей стране, следовало бы принять своевременные меры задолго до того, как он подрос и стал поедать всех подряд.
М. была с этим совершенно согласна, но ей стоило некоторого труда объяснить своим собеседникам, что сама природа зверя делала затруднительной охоту на него или битву с ним. Зверь, видите ли, был не передо мной и не за мной, могла бы она сказать, он всегда находился вокруг меня — до такой степени, что мне понадобились годы, чтобы распознать, что я жила внутри зверя, а может быть, в нем и родилась. […] А сама я была, получается, частью зверя, пусть и проглоченной по случайности или выросшей по ошибке, — и хорошо понимаю, что это делает мой опыт ущербным, а рассказ — не вызывающим доверия.
Тут обнаруживается одна важная вещь. Рассказывая о своих взаимодействиях с окружающими, героиня “Фокуса” подчеркивает, что они относятся к ней заинтересованно и доброжелательно, видят в ней “писательницу”, которая может “рассказать о” катастрофе и сама является “жертвой” власти. Так, будто бы можно находиться к катастрофе в субъектно-объектных отношениях, выйти за ее границы и применять к ней те или иные речевые техники, о-смысливать ее или о-писывать. Чуткий читатель не может не уловить в том, как подана в тексте вся эта “писательская” “привилегированная” ситуация, иронической и остраняющей ноты… Те, кто удостаивает героиню вниманием и наделяет тем, что можно назвать “привилегиями”, кто задает ей вопросы “об устройстве зверя”, кто рассуждает о “влиянии” произошедшего на “культуру”, отчасти смешны: похожи на лисицу, которая копает твердый пол клетки, и думает, что теперь ее нычка никому не видна — ведь соответствующее действие произведено. Они видят на месте М., как и на месте того, о чем просят ее “рассказать”, не то, что есть, а то, что там должно быть, согласно принятой ими системе координат, и соответственно обращаются с ней.
Они по-прежнему живут в разграниченном и нормированном пространстве европейской цивилизации, где все разложено по ячейкам, на все есть правила, и у них просто нет рецепторов для восприятия того, что в ячейки не укладывается. Вот, например, в резиденции, которая находится на озере с лебедями (ироническая аллюзия — налицо: ну какое озеро, какие лебеди, будто бы говорит нам повествователь), происходит инцидент: “Однажды, когда местная лиса загрызла местного лебедя прямо на глазах у детей, игравших в прибрежной траве, за общим столом обсуждалась ее беззастенчивость и кто-то высказал мнение, что такое поведение недопустимо и надо что-нибудь сделать”.
У мира, где живет М., выстроены отношения нулевой толерантности ко всему, что имеет отношение к “зверскому”. Концепт “зверскости” подвижен, и раскрывается (прирастает смыслами) по ходу повествования. Зверское — это все низменные инстинкты, находящиеся за границами нормы и неминуемо приводящие к насилию, которое, как показывает иронический пример с лисицей и лебедями, должно быть полностью исключено из видимого социального пространства, скрыто, табуировано.
Как устроено это табу, показано в рассуждении о страшилках на сигаретных упаковках:
Неприятные эти пачки оставались, кажется, единственным местом в мире, окружавшем ее теперь, где о болезни и смерти и о том, что делают они с человеческим телом, говорили прямо и грубо, выставляя страшную сторону бытия напоказ. на страницах медицинских буклетов и женских журналов все эти штуки присутствовали, но деликатно, даже обнадеживающе — только буквам было дозволено касаться неприглядной и грозной реальности, только мелкому шрифту; зато сопровождались тексты фотографиями прекрасных и грустных женщин или благородных стариков, не терявших, похоже, на пути к могиле ни разума, ни достоинства. Ужас и боль существования присутствовали теперь только на коробочках со всякими “Мальборо” и “Лаки Страйк”, как если бы те, кто их покупает, по умолчанию были настолько далеки от цивилизованного мира, что незачем уже скрывать от них его чудовищную подкладку; наоборот, только ее им и полагалось видеть…
Среди тех, кто может видеть эту “подкладку”, лицемерно (или утопически?) скрываемую цивилизацией, и М. На протяжении всего рассказа она с ужасом и стыдом отмечает в себе черты “зверскости”; мысль о том, что все, кто побывали внутри зверя, несут в себе его частичку, и вот она тоже — непроизвольно, вопреки собственной воле, незаметно для себя — оказывается таковой, вновь и вновь повторяется в тексте.
Причем символы и знаки, которые не дают ей забыть о своем “зверстве”, постоянно встречаются на ее пути, будто ей намеренно подсовывают нечто, напоминающее о ее вине, как в известной истории про женщину, убившую своего ребенка. Вот, например, сфинксы. Глядя на их нежные лица и зверские, покрытые волосами лапы, она думает и о собственной двойственности, неоднородности: “…и слова, и мысли, и, кто знает, поступки могли ее в любую минуту подвести, и она проявила бы собственную чудовищную суть. [...] Мысль эта так укрепилась в М., что она иногда ловила себя на том, что изучает в зеркале свои руки: не начала ли пробиваться понемногу рыжая шерсть пониже локтя”.
При внимательном прочтении оказывается, что “Фокус” — это не жалоба на тотальную отмену через “отменяющее” определение, не стадия отрицания вмененной вины, как можно было бы подумать, а анатомически точное изображение ада самоотмены. Констатация “двойственности природы” важна, если мы хотим понять, что происходит с писательницей М. Работа, производимая ее человеческой стороной, сводится к рефлексии над болезненным и парализующим присутствием внутреннего зверя, который как бы “застрял” внутри нее и парализовал, обесценил и обессмыслил все, что М. могла бы сказать или сделать. Она может лишь сдерживать его, чтобы он не вырвался наружу. Этот паралич сдерживания хорошо описывает образ застрявшей во рту мыши, вызывающий у эмпатичного читателя прямо физиологическую тошноту:
…стоило начать шарить в уме в поиске каких-нибудь слов, М. чувствовала, что во рту у нее полуживая еще мышь, и выплюнуть ее никак не удавалось — она шевелилась, зажатая между зубами, и надо было то ли сжать челюсти, с хрустом перекусив ее пополам, то ли так и жить дальше с мышью во рту, ни о чем другом не думая.
Вся “привилегия” писательницы М., таким образом, сводится к тому, что, благодаря слепоте мира, в котором она живет, к “зверству”, ее удел — аномия и экзистенциальное одиночество. Она живет чужую жизнь, доставляющую ей постоянные мучения. В сущности, как та самая мышь во рту, которая и не проглочена, и не отпущена, она находится между двумя мирами, ни в одном из которых ей нет места: ни в мире цивилизации, утопически вытеснившей любые намеки на животную изнанку человеческой природы и поэтому парадоксально слепой к чистому насилию, не имеющей для него адекватного языка, ни тем более в мире, где кроме зверства и насилия ничего уже не осталось, в мире, с которым она бы и рада порвать, но он — внутри, и она носит его в себе, не имея возможности ничего с ним поделать.
Выхода вроде бы нет. Но он есть. Его внезапность заставляет нас предположить, что читаемый нами текст вовсе не “роман” (ну какой роман, в самом деле), а настоящая новелла, в классическом, еще возрожденческом или гётевском смысле, потому что в ней есть пуант, то есть такой сюжетный момент, который заставляет понять все, что происходило до этого, по-новому. Остраненное повествование позволяет вывести ситуацию писательницы М. из двумерной плоскости тотального разделения, в котором “кто не с нами, тот против нас”, в объемный мир ошельмованной и отвергнутой двадцать первым веком иронии. Это не та ирония, которая “добрая насмешка, в отличии от сарказма” и которая, если к ней присмотреться с некоторой точки зрения, способствует утверждению иерархий, и не постмодернистская ирония, которая чем дальше, тем непонятнее, что она такое (смутно помнится что-то про “моральный релятивизм”, который благодаря ей становится возможен), — нет, это старая добрая ирония, родившаяся в недрах романтической философии, та, что про тотальное несовпадение жизненного мира с самим собой, про становление, которое невозможно припечатать раз и навсегда данным определением.
История писательницы М. рассказана “повествовательной инстанцией” как серьезная и трагическая, но в самом рассказе отсутствует то, что принято называть “звериной серьезностью”. Все, о чем в ней говорится, — кроме самой катастрофы, которую можно считать онтологической константой этой новеллы, ее “ноуменальным” ядром, — выскальзывает из определений и оказывается не тем, чем кажется. Разумеется, этот иронический ход нужен не для того, чтобы переиграть апокалипсис (с определения исторической катастрофы как онтологической начинается новелла) и сказать, что все ок, беспокоиться не о чем. Он нужен для того, чтобы найти способ говорить, не перекусывая мышь. Чтобы найти такое пространство, где возможно будет вновь видеть сложность и, не впадая ни в лицемерие, ни в зверство, думать — в первую очередь над случившимся. Что этот текст и проделывает с историей двусмысленной ситуации писательницы М., которая, конечно же, вовсе не Мария Степанова точно так же, как этот текст — вовсе не автофикшн. Новелла — это одна из самых агрессивно литературных форм, она что угодно превращает в фикшн.
Так и здесь. Неразрешимую ситуацию, выход из которой — перестать быть (социолог Дюркгейм описал такого рода самоубийство как “аномическое”), разрешает …фокус. То есть буквально фокус. Цирковой. Но и не только буквально. В работе “Логика мифа” философа Голосовкера говорится, что миф делает мифом закон исключенного третьего. Ну то есть, согласно современной рациональной логике, ты либо жив, либо мертв. Для мифа умереть и при этом остаться живым — абсолютно нормально и не удивительно. Но глядя на это из, скажем так, современного мира, если такая штука проделана — это чудо. Или, как его еще называют, фокус. Авторка позволяет героине сделать то, чего она так жаждет: выйти из своей биографии, контроль над которой она окончательно потеряла, но при этом остаться живой. Писательница М. едет, едет на литературный фестиваль, но не доезжает. Сцепление нелепых случайностей, которые могли бы быть комическими, приводит к тому, что она остается в незнакомом городе, одна, без всякой связи с внешним миром, и, как кажется ей, инкогнито. И ее попускает. В этом месте читатель может спросить разочарованно: что, все так просто? Ведь зверь и его зверства никуда не делись. Как же мышь и прочая совесть?
Если бы речь шла не о литературе, ответа на этот вопрос бы не существовало. Но перед нами новелла. Автор и не скрывает, что героиня прошла сквозь невидимый порог и попала в другое измерение, где все иначе (хотя и не особо это педалирует, в надежде, что люди еще не разучились читать). Тут и “белый кролик” есть — блондин с заколками на тщательно причесанной голове, за которым устремляется героиня, дав наконец волю своим инстинктам, которые, очутившись в роли никого в приграничном (sic!) городе Ф., она почему-то больше не считает нужным сдерживать (внимательный читатель отмечает, что так и не съеденный вегетарианский сэндвич сменяется на жадно пожираемый мясной бургер). Но самое интересное, что хотя она и дает волю своим инстинктам, не происходит ровно ничего плохого. А происходит вот что: она попадает в бродячий цирк и слышит разговор на русском (!) языке, где речь идет о каком-то льве — сначала мы думаем, что это зверь, но потом выясняется, что это Лев-человек. Он фокусник и он умер, и теперь его место может занять одна из ассистенток, если только найдется кто-то, кто вместо нее отработает “смертельный номер” — побудет в саркофаге, который перепиливают бензопилой.
У этой циркачки, замечает М., странная татуировка: “Она покрывала всю поверхность кожи без пробелов, как кружевные колготки с изощренным рисунком, и изображала волосяной покров — густые крупные завитки, поднимавшиеся выше и выше к паху и плотностью напоминающие русалочью чешую”. Этот экфрасис, один из многих в небольшом тексте, полон значения и продолжает анфиладу образов-напоминаний о “зверской”, двойственной природе героини.
Эта квази-русалка соответствует сфинксу из первой части. Но вызывает теперь совершенно иные, не “адские”, ассоциации: “Много лет назад М. показывали средневековую скульптуру над немецкими воротами, сейчас и не вспомнить уже, чтó та символизировала. То была лесная женщина, что ли, раскинувшаяся так вольготно, что любо-дорого, и ничто ее не тревожило: ни то, что она была обнажена, ни ноги, сплошь покрытые кудрявой шерстью, какой ее смертная современница постеснялась бы”. И далее: “Волосы на ногах ведь были вроде как продолжением того, что называется срамом и что принято было скрывать под одеждой, как дикого зверя, лисенка какого-нибудь, готового вырваться наружу и всех покусать”. Эта лесная женщина была “эмблемой грозной инаковости; но это ее, кажется, нисколько не занимало, и она была собой и миром довольна…”.
Этот метафорический ход разворачивает тему зверства в совершенно другую, неочевидную из точки начала метафорического движения сторону. Мир, в который попала М. — это мир, где “звериное” можно не скрывать. Оно интегрировано, проявлено. И — цирк же! — укрощено. То, что трудно (и, быть может, невозможно) произнести прямо, проговаривается Степановой эмблематически. Вот так, например:
Эта последняя картинка всегда напоминала М. изображения блаженного Иеронима, покровителя переводчиков, на которых всегда в первую очередь ищешь льва и радуешься, его обретая. [...] …обыкновенно живописец отдает животному должное, и умный зверь то лежит у святого в ногах, то заглядывает ему в лицо, ища понимания, то доверчиво протягивает лапу, из которой требуется извлечь занозу…
Мысль, которая должна быть сформулирована, когда читатель пройдет сквозь анфиладу любовно описанных изображений, где человек приручил и понял свое “грозное иное”, непроста, вероятно, как само “неисключенное третье”, которое можно было бы много чему противопоставить или представить в качестве выхода из катастрофических коллизий. Но уместно ли из этой акмеистически точно выстроенной, полной культурных аллюзий и перекличек конструкции извлекать мораль? Кажется, в нашу эпоху простых (и неправильных) ответов на сложные (и не имеющие ответа) вопросы, правильным будет от морали воздерживаться.
Иногда литературное произведение не учит ничему. Потому что у автора нет такой цели. А есть цель зафиксировать некую сложную констелляцию, которая способна поставить или прояснить вопрос. В нашем случае это вопрос: “Есть ли выход?”. Ну и что, спросят иные, есть? На это можно лишь пожать плечами. Святой Иероним — покровитель переводчиков, а цирк — всего лишь гетеротопия. Можно попробовать сопоставить одно с другим… Можно попробовать понять автора. Можно попробовать понять героиню. Может быть, ответ — в усилии понимания кого-то или чего-то Иного-чем-я-сам…

