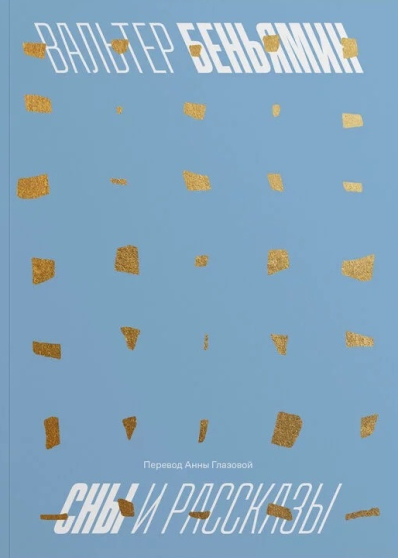
Беньямин В. Сны и рассказы — М.: Носорог, 2025, 96 с.
Алена Фокеева о сборнике Вальтера Беньямина “Сны и рассказы”
“Вы увидите господина, который ничем на вас не похож”
В “Носороге” вышла книга одного из любимых авторов издательства — философа, литературного критика и теоретика культуры Вальтера Беньямина “Сны и рассказы”. В этот маленький сборник вошли тексты разных лет: фрагменты писем и эссе, дневниковые записи и, собственно, рассказы — от студенческих до самых поздних. Большая их часть впервые переведена на русский — их перевела поэтесса Анна Глазова, ранее уже работавшая, к примеру, над теоретическим эссе Беньямина “Судьба и характер”.
Тема сна всегда была очень важна для Беньямина а. Известно, что в 1928 году он отправил большую подборку записей сновидений для “Книги снов” — обширной антологии польско-немецкого историка культуры Игнаца Ежовера. Этот важнейший труд упрочил представление о том, что сон может быть предметом эстетического анализа. И вера Беньямина в глубокую связь между искусством и подсознательным очевидна даже несмотря на небольшое количество текстов, вошедших в сборник “Носорога”.
Поэтому неудивительно, что “Сны и рассказы” — не первый сборник, пытающийся дать широкому читателю представление о роли у Беньямина. Ему предшествовал вышедший в издательстве “Зуркамп” в 2008 году сборник Träume (“Сновидение”), в который вошли в том числе и теоретические размышления философа об историчности и политичности снов, а также анализ связанной с этой темой литературы. Носорожий сборник составлен иначе, и оставляет после себя впечатление в первую очередь художественное, пусть и не вполне похожее на послевкусие от традиционной прозы.
Первая часть книги (“Сны”) содержит короткие, иногда укладывающиеся в один абзац, описания сновидений, детские воспоминания и размышления о природе сна, причем отличить одно от другого бывает сложно. Беньямин составляет в том числе галерею “Автопортретов спящего”: изображает себя-внука, себя-ясновидца, себя-любовника, себя-летописца и так далее, фиксируя и принимая любые воплощения своего “я”.
“Беньямин говорил, что успех его писательского стиля обусловлен отказом от первого лица во всех текстах, кроме писем. Тем не менее в рассказах о снах нельзя избежать самого глубокого проникновения в свое «я» и пересказ сновидений по необходимости включает в себя ‘мне снилось’ или ‘я видел во сне’”, — пишет Глазова в предисловии к книге. Таким образом, мы имеем дело с особой главой наследия философа — предельно личными текстами человека, который стремился вычесть “я” из собственного творчества.
Автор не пытается погрузить нас в сомнамбулическое состояние — напротив, он манифестирует обращение к снам “с другого берега, со стороны светлого дня”, “из обдуманного воспоминания”. Отсюда и ощущение аналитичности текстов, на первый взгляд скорее мистических, чем рациональных. Оставляя впечатление от сна целостным, Беньямин тем не менее смотрит на них взглядом бодрствующего, цепляющимся за детали и только силящимся охватить всю картину целиком.
Этот взгляд сближает читателя и автора. Мы, неспящие, вглядываясь в сумрак чужого (или своего) подсознательного, одинаково далеки от его понимания, но неизбежно принимаем если не конкретные образы, то общие законы сновидения — внезапные смены декораций, превращения одного в другое, равноправие прошлого и настоящего. И субъективные, построенные на личных ассоциациях и предельно индивидуальном опыте арабески становятся универсальными.
На протяжении всего текста мы встречаем скупые, предназначенные для себя, а не для посторонних опознавательные знаки реальной биографии Беньямина — даты записей и писем, указания на события, людей и места. Впечатления дня вплетаются в сны, но верно и обратное.
“В последние ночи мне снятся сны, оставляющие глубокий отпечаток в днях”.
“Теперь я не только дольше сплю, но и сны у меня стали более настойчивыми, часто возвращаются и вплетаются в мои дни”.
“Мысли глубже всего затрагивают нас при пробуждении, и что они нам ни приносят — ходатайство ли, смертный ли приговор, — под тем мы и ставим свою подпись”.
Влияние снов столь велико, что они позволяют проживать глубокие, острые чувства, противоречащие дневному опыту. Так, в одном из поздних писем своей подруге интеллектуалке и ученой-химику Гретель Адорно Беньямин описывает счастливое сновидение “из тех, которые снятся примерно раз в пять лет”. Письмо датируется октябрем 1939 года, когда философ вынужден был спать на соломенной подстилке во французском лагере для интернированных в Ньевре. Дальше было еще хуже. Почти ровно через год еврей и антифашист Вальтер Беньямин получил визу на въезд в США и перешел испанскую границу с группой беженцев, чтобы отправиться в трансатлантическое путешествие из Лиссабона, но план не удался. В Каталонии, в городке Портбоу, он столкнулся с угрозой экстрадиции в оккупированную фашистами Францию и, потеряв надежду на спасение, совершил самоубийство. И тем не менее в письме из лагеря в Ньевре Беньямин пишет о всепоглощающем счастье, перешедшем из ночи в день.
Вторая часть книги — “Рассказы” — во многом проще “Снов”. Тексты становятся длиннее, у них часто есть понятный сюжет, и удовольствие от разгадывания тайны, сопровождающее читателя и в “Снах”, становится более отчетливым благодаря появлению интриги. Какой вопрос не дает покоя стареющей императрице Мексики? На какую прихоть втайне от всех потратил доставшееся ему богатство молодой барон? Найдется ли когда-нибудь коллекция африканских масок чудака О’Брайена? Нои во второй половине книги рассказывание истории — средство, а не цель.
“Сейчас вам предстоит странное знакомство — вы увидите господина, который ничем на вас не похож. Это ваше второе ‘я’”, — слышит герой одного из рассказов, и эта фраза вскрывает логику объединения казалось бы разрозненных “снов” и “рассказов” в один сборник. Магистральной темой и тех, и других является как раз знакомство с этим вторым “я”, погружение в тайное, проникновение в скрытую часть биографии и личности — как собственной, так и чужой. Существенную часть этой секретной жизни составляют страхи, желания, более или менее отчетливые эротические фантазии, мечты и чувство стыда.
Кроме того, размышление о природе снов и тайнах личности в исполнении теоретика культуры неизбежно сопровождается размышлением о природе искусства, красоты и гармонии. “Речь шла о том, чтобы превратить стихотворение в шейный платок”, — неожиданно заявляет герой Беньямина (или все-таки сам Беньямин?) в том самом “счастливом” сне, который, по словам автора, вращался вокруг темы “чтение”. Сны наполняются “выразительными и красивыми архитектурными формами”, образами с полотен живописцев, всевозможными коллекциями и собраниями предметов искусства, то и дело всплывают строчки стихов, смысл снов воплощается в тайнописи — не поддающихся расшифровке именах и кратких афоризмах, ключ к которым так не хочется терять при свете дня.
Попытка записать сновидение по своей природе близка к стихотворчеству, к попытке решить проблему “невыразимости”, прибегнув к особому типу языкового мышления, доверившись откровению, как единственному способу преодолеть расстояние между словом и глубинным ощущением. Неслучайно переводчиком этого текста стала именно Анна Глазова.

