Сергей Соловьёв. Телесный свет. — Франкфурт: Esterum Publishing, 2025
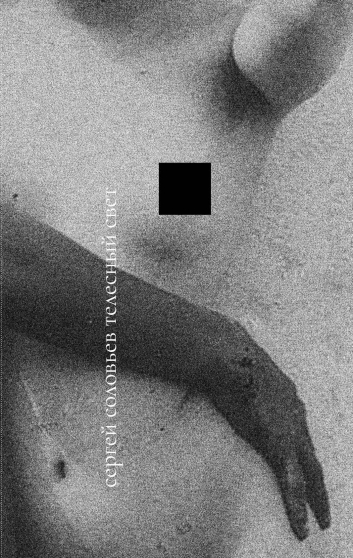
Тихая мюнхенская улочка Изарек штрассе, где живу-не-живу. Изар — речка, эк — угол. Но ни угла, ни реки, она на другом конце города. Липы, акации, булыжная мостовая. Дома невысокие, разноцветные крашенки. Квартира с выходом во внутренний дворик с садом. Птицы, белки, куница. И ничейный трёхцветный кот-женщина — бродит по ночным мюнхенским улицам, а утром стучит лапой в моё окно, медитативно осматривает комнату, разглядывает картины. Ни покормить его, ни приласкать. Любое из благих намерений он еле терпит. Люди, кажется, навсегда выбыли из его восприятия. Люди, дни, времена года. В углу стоит блюдце с едой и водой, но он огибает их, впрыгивает на стол, подходит к хрустальной цветочной вазе и пьёт оттуда, раздвинув цветы и глубоко опустив голову. Я зову его Пришвин. Варя Пришвин. А соседку — медсестру рукопашной комплекции — зовут Герта. Отец её был в гитлер-югенд, в первый же бой вышел с поднятыми руками. Сын у Герты от неизвестного мужа, и два любовника — оба Вольфганги. Ходят к ней в будни попеременно, а по праздникам — вдвоём, в обнимку и навеселе. Выше этажом живёт Урсула, ей под девяносто. Ребёнком, ещё до революции, её вывезли из Питера. Первым мужем был немецкий композитор, погиб в расцвете. Вторым — австрийский барон, оставивший ей наследство и замок. Третьим — жиголо, итальянец, всё промотал и исчез. Детей нет, и родни не осталось. Как-то чинил у неё телефон, вроде наладил, и говорю: надо бы позвонить кому-нибудь, проверить. Долго листает ветхую записную, испещрённую меленьким почерком. Этот, говорит, умер давно, эта тоже, и тот, и на эту последнюю букву. Alle tot, говорит, все умерли, все! И смеётся — так по-детски, до слёз, но беззвучно, и остановиться не может…
Незадолго до смерти Антонен Арто был заточён в Дом умалишённых, где провёл шесть лет. Некоторое время его лечили электрошоком, сеансы которого, как он писал главврачу клиники, лишают памяти, от них цепенеет мышление и сердце, делают его отсутствующим в мире, причём, пишет он, я знаю, что отсутствую и оттого целыми днями занят поисками своего бытия, как мертвец среди живых. После одного из таких сеансов у Арто ломается спинной позвонок, надолго приковывая его к кровати. Он пишет длинные письма, просит главврача наконец дать ему зубную щетку, которую ждёт третий месяц, чтобы чистить оставшихся восемь зубов.
История с заключением Арто в клинику странная и до конца не прояснённая. Вернувшись в 1937 году во Францию из Мексики, где в джунглях впитывал опыт трансовых шаманических мистерий и психоделических снадобий, он каким-то образом приобретает трость Святого Патрика, считая, что это также атрибут Люцифера и Христа, и отправляется в Ирландию, чтобы вернуть ей эту реликвию. Там он попадает в тюрьму, затем депортируется на родину и оказывается в психиатрической клинике. Ему пытается помочь Андре Бретон, другие его друзья, но вызволить его на свободу не удаётся.
Письма эти необычайны — как если бы “Записки сумасшедшего” исходили не от Поприщина, а, скажем, от Мейстера Экхарта, совмещённом с Рембо времён “Озарений”. Письма, в которых он на практике воплощал то, что писал в “Театре и его двойнике” — сдирая кожу с мнимой реальности, начиная с себя. На этот страшный период приходится, как ни странно, один из высочайших его творческих подъёмов.
На журнальном столике у моей кровати уже долгое время лежат две книги. Одна из них — недавно изданный четырёхсотстраничный том Арто. Читая по щепоти, я дошёл в этом сумрачном лесу пока лишь до его середины.
Как странно, уже двадцать лет моей жизни в Мюнхене. Но там ли я, жил ли? Всякий раз, идя по улице или гуляя в парке, вздрагиваю, вдруг слыша немецкую речь. И доходит не сразу, где я. Нередко спрашиваю себя: а как бы мой дед, прошедший войну, отнёсся к этому переезду? В тот день в сорок первом, когда Киев бомбили, бабушка с девятилетней мамой были на дебаркадере, оборудованном под плавучий санаторий, дед на вёсельной лодке переплыл Днепр под рвущимися бомбами, взял жену с дочкой и, когда они в квартире слишком долго собирали вещи в эвакуацию, вытолкал их налегке, выбросил ключ, посадил в эшелон и ушёл на войну. Считаные случаи в его жизни, когда, к удивленью знавших его, вдруг так решительно проявлял себя. В той самой жизни, где все мы в какой-то мере проявляемся, а о нём и этого не сказать, бог весть в каком измерении он пребывал, кроме тех считаных раз.
Другая книга — индийские записи художника Василия Верещагина, он дважды в конце девятнадцатого века путешествовал по Индии. Этот дневник вела с ним его жена, хрупкая немка Элизабет, родом из Мюнхена, “слабая и мизерная”, “старушка милая”, как говорил о ней Верещагин, женщина, с которой он прожил долгие годы, путешествуя по России, Сирии, Палестине, Тибету... Хотел найти ту часть их путешествия, где они посещают древние буддийские пещеры Аджанты с фантастическими росписями, соотносимыми по красоте с фресками Помпеи. Его записи были бы тем интересней, что в ту пору пещеры только недавно обнаружили в дремучем ущелье глухого безлюдного края на севере Махараштры, где обитали лишь тигры и местные племена. Говорят, при создании этих росписей две тысячи лет назад, чтобы хоть как-то видеть в полутьме, живописцы выстраивали вереницу медных зеркал от входа к дальним углам, где велись работы. А расписывая своды, сверялись с отражением в воде на полу. Когда пару лет назад я оказался там, долго бродил в свечении сумрака, выбыв из времени, как по улочкам затонувшей Атлантиды.
Человек, говорит Кафка, легковесен, подобно взлетающей пыли… Нет, не это. Есть лишь два греха — нетерпение и небрежность. Из-за нетерпения мы изгнаны из рая, из-за небрежности не можем туда вернуться. А может, говорит, только один — нетерпение. Из-за него изгнаны, из-за него же не можем вернуться.
Накануне той поездки в Индию был у отца на мюнхенском кладбище. У отца, детдомовца, до конца дней оставшегося верным жизнелюбию и достоинству. У нас была редкая связь, какая между людьми едва ли случается. И вот он ушёл, меня не было рядом. А перед тем пробежала трещина, по недоразумению, и всё никак не могли поправить — чем больше пытались, тем больнее и неразрешимей. Таким и осталось уже навсегда. Десять лет со дня его смерти я не был на его могиле. То есть был, но поддерживая маму, с которой они разошлись, когда мне было шесть. А прийти один — не мог. Серенький день, моросил дождь, я не знал, как начать, куда при этом смотреть, где он, где я… Что-то говорил, чувствуя, что каждая фраза фальшивит, что всё не о том, не так, не я… Чем дальше, тем хуже. И это тихое мюнхенское кладбище — не из нашей жизни, ни его, ни моей. Отошёл. Вернулся. Попросил прощения, и это было ещё хуже. Его нет нигде. И в то же время он был рядом, во мне, а я не знал, куда повернуть голову. Между явью и сном. И Аджанта, и могила отца, и все эти бесконечные миры, текущие сквозь вереницу незримых зеркал.
В дневнике Верещагина ни слова об Аджанте, речь идёт лишь о небольшом периоде одного из двух их странствий в Индию — о Гималаях. Верещагин тогда задумал взойти с женой на Эверест, куда ни один человек в то время ещё не отваживался. Пошли они в самый неблагоприятный сезон в сопровождении двадцати местных кули, на высоте свыше четырёх тысяч метров кули исчезли, они остались вдвоём. Солнце сдирало кожу с лица, а одежда на спине покрывалась сантиметровым льдом. Богатырь Верещагин едва стоял на ногах, продолжая рисовать коченеющими пальцами, впиваясь заплывшими глазами в невиданно ослепительную красоту. Потом укрыл жену, засыпаемую снегом, оглянулся на неё в последний раз — оба понимали, что наверное больше не увидятся — и пошёл вниз искать кули. Нашёл, вернулся с ними...
Вот так выйдешь-войдёшь — в лесок, в слова-чувства, в-на-минутку-другое — и уже не вернуться в себя. Даже если вернулся, и вроде бы это и есть ты. Разве тот ребёнок, кем ты был когда-то, или тот юноша, которого едва помнишь — это они в твой смертный час умрут с тобою? Сойдутся в этот миг — из разных далей, родные, неузнанные, все, кем ты был — и исчезнут. Или не все?
Нет путей просветления. Один рис сеет, другой левитирует в духовных практиках, третий книгу пишет, а на деле никто никуда не движется, тот же лес, с той же радостью и смертью, и никаких ключей, истин, мудрости, человек рассеивается, как утренний туман, кто его помнит? Но спрос людской на эти ключи неизбывен, и протаптываются тропки внимания, намоленные — к старцам, философам, разного рода учителям. И никто никому помочь не может, они и сами себе не в помощь, эти учителя, и часто куда неустроенней у них внутри и бедовее, чем у того же сеятеля риса. Похоже, на этих путях духовных практик, да и, прости господи, творческих, связь с живой тканью мира сужается, слабнет. Кажется, что наоборот, но нет.
А ещё? Что чудеса побеждают, что именно они и есть настоящая реальность? Но как это примирить? Держать удар, говорят, имея в виду тяжкие события, драматичные, если не трагические, а держать удар счастья, держать удар переизбытка чудесного — это ведь не меньший вызов.
А ещё? О радость, радость, дети мои, не обижайте её в себе и вокруг, пока ангелы печали сучат из вас нити!
А ещё? Мгновенья настоящей близости с жизнью — бесчеловечны.
И солнце ручку золотит, да, ромалэ? А ещё?
Две женщины. С одной — чуткое речевое счастье, навсегда, как бы жизнь ни была темна. А с другой — связь такой небывалой телесности, что всё остальное рвалось и снова срасталось как разъятое тело — одно на двоих. Ближе кожи была и дальше звёзд.
Нет их. И третьей нет — дочери. Погибла. Упала с балкона. Или? Нет свидетелей. Ещё жива была — около часа, лишь моргала, вся сломанная, пока в реанимацию везли. Девочка, как твоё имя? — спросили в клинике. Женя, — ответила, и её не стало. В тридцать лет. Лучезарная, длинноногая, безоглядно открытая, такая моя, что родней не бывает.
В тот год, когда вдруг проговорился ей, десятилетней, что я её отец, вскрикнула, захлебнувшись счастьем: Папа, папочка, я знала, чувствовала! А потом маме моей пишет в Мюнхен: ты не волнуйся, я позабочусь о нём, вот только немножко окрепну душой и телом.
Окрепла, и случилась любовь, настоящая, всё сметающая на пути, с мусульманином из Оксфорда, жили в небе, листая страны… А потом — оползень отношений, он вдруг исчез, отсиживался в Эмиратах. Шла до конца, боролась, отчаянно, погружаясь всё глубже в депрессию. И погибла. Потому что нет, говорила, жизни без любви —настоящей, единственной, с ним.
Может, дело в подмене “я”? Когда приходит депрессия, поначалу кажется, что ещё справляешься и что это всё ещё ты. Но постепенно расстановка сил меняется: там, где был ты, твоё я, там уже твой “сменщик”. Это он, воспринимаемый тобой как твоё “я”, мучительно вглядывается в происходящее, видит его безвыходным, принимает решения. И нет у тебя того привычного себя, который сказал бы: брось, это не ты и картина мира совсем другая, не поддавайся. Там — сменщик. Это он, а не ты, принимает решение покончить с собой — с тобой.
Однажды, в один из моих приездов в Москву, ей было, кажется, девятнадцать, она недавно поступила в университет на лингвистику, гуляли с ней поздним зимним вечером по Замоскворечью, зашли в клуб-квартирник “Третий путь”, музыка, много народу, сидим у барной стойки, разговариваем, попиваем что-то коктейльное — одно, другое, и так хорошо на душе, и хмель такой неявный, но кажется, и ему, хмелю, так хорошо с нами — сидеть, разговаривать, чуть покачиваясь в такт музыке. Я отлучусь на минуту, говорю ей. Иду в туалет, возвращаюсь, а там, на выходе, закуток между баром и танцевальным залом, блюз звучит, тени топчутся и световые мурашки по стенам и потолку плывут. Но всего этого я уже не вижу. Потому что давно стою, обняв женщину, обнявшую меня. Я столкнулся с ней прямо на выходе, в темноте, так, что и лица не увидел. И вот мы стоим, прижавшись друг другу, еле касаясь губами, ресницами, глаза у меня и прикрыты, но и не нужно видеть, потому что всё уже произошло, она здесь, со мной, мы одно, единое, навсегда. Разве спрашивают имя у навсегда, разве заглядывают в лицо единому? Просто была одна жизнь, и кончилась, верней, началась, настоящая: я нашёл её — единственную, такую родную, мою. Я всё стою с закрытыми глазами, а она тихо отдаляется, как отплывает, но мне не страшно, потому что мы нашли друг друга и уже ничто не может нас разлучить, выронить, потерять. Она где-то здесь, как и я для неё — где-то здесь. Мне светло и спокойно, только сердце подрагивает, но не от тревоги, от счастья. Возвращаюсь к барной стойке, мы продолжаем о чём-то разговаривать с Женькой, что-то ещё заказываем, я вижу её губы, но голоса не слышу, то есть и слышу и нет — меня относит туда, в только что случившееся. Да ты не слушаешь, говорит она, где ты? И я сбивчиво рассказываю ей о только что случившемся. У неё такое лицо изумлённое. Разве ты, говорит, не понял? Это же была я.
Нет её. И мира с незаметно вошедшим в него сменщиком. И некому ни сказать, ни услышать: это не ты, не ты…
Когда-то в Крыму, ей тогда было около четырнадцати, мы вышли ночью на гурзуфский пригорок, чтобы выбрать себе две звёздочки на небе, рядом, чтобы всегда, где и когда бы мы ни были врозь, могли найти друг друга. И здесь, и после смерти. И было очень важно настроиться перед этим выбором, чтобы чувствовать действительную неслучайность в нём, и ещё чтобы это было такое созвездие, которое можно было всегда найти в небе. И выбрали, всё получилось. На днях нашёл её письмо того времени. “Кассиопея и наша с тобой звёздочка повсюду следуют за мной, оберегают, словно ты, словно мы, вместе, навсегда. Возможно, через сотни тысяч лет там будем мы на веки вечные. Мечты, они исполнятся, я верю, и ты верь. Наша сила безгранична”.
Где-то в той дали, которая движется своими тропами, оставляя смутное двоюродное чувство. Так и остановка моя называлась на трассе Симферополь — Ялта: “Тропка”. По требованию. А следующая — “Свидание”. Нечаянное? Не помню, я выходил раньше. В том краю. Сидел в саду под деревом зреющего инжира, смотрел на море в серебре, на опустевший посёлок, на дачу Чехова вдали внизу, на трёх сестёр у воды. В доме Геши, в пустынном солнечном доме, откуда разъехались гости. Остались лишь мы вдвоём и Чёс — большой рыжий барбос. Геша, высокий ладный человек, воспитанный морем и безоглядной свободой. С мягкой печалью в глазах и тихой песчаной улыбкой. Как бы с неловкостью за эту свободу — смертную. Геша наверху, латает крышу, поглядывает на меня, нет, ему не нужна помощь, просто слегка смущённая радость — оттого, что оба мы здесь, рядом, что, может быть, на днях пойдём в горы на несколько ночей. Горы уже меняют свои шали на жёлтые и багряные, но и зелень ещё держится. А потом, когда к берегам подойдет ставрида, а вослед и дельфины, возьмём лодку и пойдём на рыбалку. А однажды утром проснёмся: снег, и горы лежат, как Венеры в мехах. Сижу под инжиром, читаю Гоголя. Которого нет нигде — ни в России, ни в Украине. В Риме душа его, говорит, и к гробу Господнему едет в Иерусалим, а приехав, не выходит из тарантаса, сидит под дождём в пригороде, не нужен он мне, шепчет, и уезжает. Гоголь как Заколдованное место, как Майская ночь между Западом и Востоком. Может, пока закопаем его в саду, спрашивает Геша с крыши. Это он о чеховском ружьё. Шурик, школьный друг, перебравшийся в Москву, принёс его, чтобы Геша пока припрятал, а через несколько дней Шурика убили. Давно это было, в девяностые, с тех пор ружьё лежит под кроватью, завёрнутое в детское одеяльце. Да и чеховское ли? Третий акт, видно, будет без нас — без людей.
Сменщик, Кассиопея… Это не ты, не ты… Есть цель, и нет никакого пути, говорит Кафка, путь — это наши сомненья.
Из Индии Верещагин привозит в Париж, где живёт в ту пору, двух обезьянок. Немного дрессирует, уча реверансу с поклоном. Одна из них поддается, а другая ни в какую. Живет он в доме с садом, выходящим на улицу. Обезьяны резвятся и порой пугают прохожих. После нескольких случаев посерьёзней, администрация настаивает, чтобы он ликвидировал обезьян. Верещагин убивает из ружья первую, стреляет во вторую, смертельно ранив её. И она, та, которая “ни в какую”, встаёт в рост и, глядя ему в лицо, приложив руку к сердцу, начинает кланяться, кланяться… Верещагин не выдерживает, передаёт ружье слуге, уходит из дому.
В 1904 году у Порт-Артура Верещагин гибнет при взрыве броненосца “Петропавловск”, где, по словам уцелевшего очевидца, в этот момент стоит на палубе, заканчивая рисовать очередной этюд. Могила Верещагина — дно Жёлтого моря.
Трудные сны, муторные… Медленные пули плывут, как рыбки, а они стоят на дне Жёлтого моря, Жёлтого дома — Арто, Верещагин, милая старушка Элизабет. И кланяются, кланяются с рукой у сердца…
Дед мой, промолчавший почти всю жизнь и оставшийся загадкой для всех, кто его знал, сидевший при Махно, Врангеле и красноармейцах, гонявший чаи с Циолковским в Калуге, прошедший без единой царапины всю войну сапером, вернувшийся в звании капитана, совсем облысевший, но с прежними молодыми глазами, оставшимися такими до последних дней, когда подолгу стоял у окна, глядя в небо, вздыхая: о-хо-хо, скоро в космос… И переходил на латынь. Дед мой, Лёня, родившийся в девятнадцатом веке, был сбит автокраном, шедшим в колонне из Чернобыля в те майские дни.
Здесь, в мюнхенской квартире, недавно искали с мамой его медаль “За взятие Берлина”, так и не нашли. Лет двадцать назад пригласила меня знакомая аргентинка, танцовщица, поучаствовать в её в спектакле “Обувь и облака”, где я должен был играть советского солдата. Я надел военно-полевую форму и медаль деда, спектакль был в центре Мюнхена, возвращался поздним вечером, не переодевшись, ехал в трамвае, полном немцев, по тем улицам, где начинался фашизм. Примерно в том возрасте, когда дед брал Берлин. Его и оставили там, в Берлине, на несколько месяцев после войны, назначив начальником одной из товарных станций, откуда шли на Восток товарные составы, гружённые трофеями. Вернулся он налегке, с маленьким чемоданчиком, в котором был отрез крепдешина жене и дочери, пара перочинных ножей, перьевые ручки и карандаши.
В пересказе шумерского мифа о потопе вавилонским историком 3 века до нашей эры Бероссом, писавшем на греческом, бог Кронос перед Потопом говорит Ксисутросу (то есть Ною, в библейском мифе): перепиши имена всех на свете вещей и закопай эту перепись в “городе солнца” Сиппаре, чтобы потом восстановить знания. Сильный ход, и странно, что, кажется, никак не задействован в священных книгах. Первый круг — устный (Адам, дающий имена), второй — письменный, фиксируя и сохраняя словесную вселенную перед Потопом. То есть создавая первую Библиотеку библиотек. Под землёй. И водой.
На корабле, согласно Бероссу, был он, его жена, их дочери (сыновья не указаны) и некий кормчий. По достижению суши, вся эта группа бесследно исчезла. Кто вышел вслед за ними из Ковчега и откопал ли в Вавилонии те таблички — молчание.
Город Солнца, перьевые ручки, кланяющиеся обезьянки, рука у сердца.

