Безносов Денис. Территория памяти. — СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2024. 376 с.
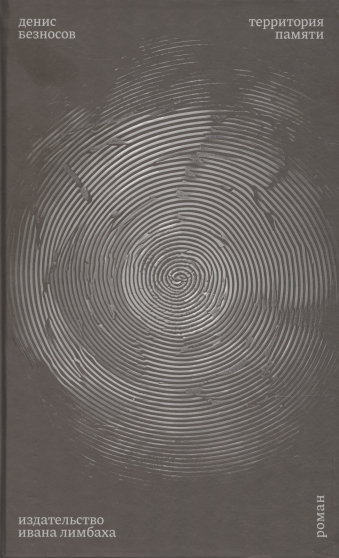
[…]
В каком-то смысле Вена страшнее Берлина, здесь пышное барокко, похожее на торт с кремовыми украшениями, там промозглая, но честная городская геометрия с поднывающей фантомной болью на каждом повороте, вместо целостного облика из руин торжественно восстаёт, что можно было собрать из камней, где угадывается прежний архитектурный ансамбль, не хватает одной из двух симметричных построек, одной из построек, которые когда-то держали равновесие, вероятно, после бомбёжки дешевле и практичнее было сладить голый параллелепипед с лысым фасадом, выкрашенным чем придётся, потом одеть его в лозунги, набившие оскомину лица, рекламу, неоновые вывески, афиши.
Берлин компенсирует лакуны стеклом и бетоном, фасады Вены в разной степени украшены, приближены, насколько это возможно, к исконному облику.
Одно из заброшенных венских зданий, некогда исписанная граффити руина банкетного зала, полностью восстановлено, превращено в отель с роскошным рестораном на первом этаже, у двери очередь из болтливых иностранцев, темно-бордовые портьеры на больших окнах и красивые люди перед красивыми большими тарелками, примерно таким было, надо полагать, это место изначально.
Почти каждая постройка воплощает исконное предназначение, в жилых домах кипит повседневная жизнь, на аукционах распродаётся второсортная живопись, в кафе варится посредственный и чересчур дорогой кофе, каждая постройка, будь то подземный общественный туалет на Грабене, скромный павильон Вагнера или уютный Бройнерхоф с размашистой цитатой Бернхарда на форзаце меню, осталась в значительной степени такой же, какой была, чудесным образом вписалась в настоящее, не обернувшись обаятельным анахронизмом, почти как ни в чём не бывало.
Впрочем, дело в наблюдении за обыденностью, обретаемой вопреки содержанию, так налаживается механизм возрождения через переобретение прежнего быта, следовательно, посредством преодоления, не столько в угоду чудаковатым туристам и жадным до исследований историкам, сколько ради всеобщего успокоения, окончательного изживания болезненных последствий вины, но это, пожалуй, все-таки иная, более сложносочиненная категория успокоения.
Вена преодолевает прошлое, прячась в привычных нарядах, обращаясь к уяснённому представлению о том, из чего создаётся повседневность, Берлин в своих попытках переобретения перекликается с Лондоном, фасадная часть, выходящая на Темзу, сбивает с толку подавляющей эклектикой, поздними, часто безвкусными постройками вдоль воды с внезапной доминантой Святого Петра посередине.
Архитектура никогда не забывает того, что забывает человек.
Здание с проломленной, впоследствии залатанной крышей либо с искалеченным фасадом чрезвычайно злопамятно, утрачивая исконный облик, оно обретает функции палимпсеста, от содержания которого можно скрыться разве что при помощи фоторетуши.
Едва ли в угловатых руинах, ослеплённых фасадах, в самих домах можно разглядеть прошлое, которому не оказался свидетелем, снесённые здания, как скошенная трава, перегнивают в почве, а город постепенно меняет облик, я представляю себе, как это делается, так или иначе, город как комната, загромождённая предметами, в него пробираешься по сухожилиям поскрипывающей половицы, булыжной мостовой, мраморных плит, пропаханного подошвами асфальта, по музейным залам, заваленным хламом, сомнительными плодами существования, вдоль витрин с экспонатами, из-за которых чучела живых существ следят за тем, как проползает день вдоль статичного интерьера, движущихся предметов, ощупывая пространство, чтобы ощутить зыбкую принадлежность.
[…]
Ханна сворачивает, но улица не меняется, те же люди, те же здания вдоль проезжей части, скрываясь от жары под навесами, слишком много машин повсюду, на улицах теперь слишком много машин, они будто бы вытесняют человека, возле табачного киоска, прислонившись к запертой двери магазинчика, курит парень, на нем бежевая рубашка с подвернутыми рукавами, женщина моет шваброй порог овощной лавки, мужчина в бежевом пиджаке с собакой, рабочие с банками краски, трое велосипедистов не могу разобраться, где я свернула не туда, она проделывает путь не впервые, но не может отыскать нужное место, она останавливается на перекрёстке, она представляет, как смотрит Вальтеру в глаза, он добрался до пограничного пункта раньше времени, всего на пару дней, она могла бы успеть, я бы успела, произносит она мысленно, глядя ему в глаза сквозь круглые стёкла очков.
Однажды, рассказывает Ханна, я читала о человеке, который поджёг в деревне соседский дом, когда кто-то оттуда пытался выбраться, он стрелял из ружья по окнам, дверным проёмам, когда люди внутри затихли, он встал по стойке смирно, свидетели рассказывали, там приводились отрывки из показаний, что он стоял так, руки по швам, смотрел перед собой, пока ему не выстрелили в спину, на фотографии был горящий дом и тело на животе, будто ползком в сторону дома, там ещё приводились реплики очевидцев, соседей, дочери, все говорили, таким вернулся, смастерил деревянный флагшток возле крыльца, каждое утро поднимал флаг, подолгу под ним стоял, дочь рассказывала, он скучал по фронту, говорил, там он был кому-то нужен, что нельзя было останавливаться, мне кажется, такие люди повсюду, они ощущают свою никчёмность, сидят по квартирам, ждут, когда произойдёт что-то такое, когда их навыкам найдётся применение, до тех пор они тоскливо бродят по улицам, у них нет никакой большой идеи, никаких особых ценностей, у них нет ничего, кроме какой-нибудь работы, иногда семьи, детей, друзей в гараже, автомобиля или велосипеда, церкви, иногда больных родителей, они обретают смысл через уничтожение, неважно, на каком основании, они испытывают удовлетворение не от самого убийства, это ошибочно связывают с сугубо психическим расстройством, фанатизмом, им необходимо единение, а единение чаще и проще всего обретается через насилие, он испытывает смысл и причастность, глядя на горящий дом, он целится, стреляет не в людей, они становятся метафорами, обязательным этапом инициации, без которого он не сможет почувствовать себя частью великого целого, мне это стало понятно потом, не тогда, в Гейдельберге, когда я читала статью, а сейчас, когда такие люди снова остались не у дел, не только в Германии, они разбрелись повсюду, их подавляющее большинство, и они бессознательно ждут разрешения снова примкнуть к общности, пожалуй, эти механизмы нерушимы и обоюдно выгодны, без них непонятно, что такое общество, в противном случае нечем будет управлять.
Племенной национализм, записывает Ханна, настойчиво доказывает, что всякий народ окружён преимущественно врагами, что между ними и нами есть фундаментальная разница, что в отличие от прочих свой народ уникален, обладает исключительным знанием, поэтому мы сразу, ещё не приступив к истреблению, отрицаем даже теоретическую возможность существования человечества как единого целого, национализм с его особой миссией извращенно подменяет множество равнозначных иерархической вертикалью, где разница исторических контекстов неверно толкуется как различие народов самих по себе.
Говорят, записывает Ханна, во всём виноваты евреи и велосипедисты, а почему велосипедисты, а почему евреи.
[…]
Люди толпятся у входа в необарочный Бургтеатр на Ринге, напротив ратуши и наискосок, через дорогу, от высветленного прожекторами здания парламента и величественной Афины Паллады, похожей на заставку американского фильма.
Двое невидимых держат огромный транспарант, на длинной полосе материи, натянутой вдоль фасада, большими чёрными буквами без засечек написано Nestbeschmutzer, что переводится приблизительно как пачкающий гнездо, дальше не могу разобрать из-за складок, vereinigt euch, что-то про единение или объединение, восклицательный знак, ниже Republikanischer Club, надо полагать, Новая Австрия, Республиканский клуб Новой Австрии.
Мужчина в пиджаке или коротком пальто, светлом, но определить цвет решительно невозможно, поскольку фотография чёрно-белая, спиной к объективу, мужчина в тёплой куртке, на оттенок светлее, вероятно раздающий листовки, кудрявая женщина с шарфом на шее, она всматривается в мужчину с листовками, в его лицо, что-то ему говорит и, кажется, улыбается, они выглядят спокойными, расслабленными, уверенными в себе, хотя, очевидно, протестуют против непотребства, учиняемого в центре города.
Накануне известный режиссёр Клаус Пайман заказывает на столетие легендарного Бургтеатра и потом ставит пьесу Heldenplatz драматурга Бернхарда, неудобную, поистине оскорбительную вещь, чем вызывает бурные протесты со стороны почтенной публики.
Протагонист, университетский профессор Йозеф Шустер, возвращается в родную Вену после войны, обнаруживает, что ничего за годы не изменилось, по крайней мере в сколько-нибудь приемлемую сторону, и потому выпрыгивает из окна, из которого видно роскошно-прямоугольную Хельденплац, площадь Героев, построенную для парадов, но вошедшую в Новейшую историю благодаря аншлюсу.
В день похорон Шустера его брат Роберт, вдова Хедвиг, дети Лука, Анна и Ольга, экономка Миссис Циттель и служанка Герта разговаривают, пытаясь разобраться, что и почему с ним случилось, Österreich, 6,5 Millionen Debile, так Nestbeschmutzer Бернхард оскорбляет законопослушных граждан Австрии, оказавшихся жертвами ситуации, пока они пили меланж Кульчицкого, их подавленно-невропатические ступни послушно маршировали в сторону Хельденплац.
Шум, нарастающий с площадной брусчатки, голоса за поминальным столом, слепящий свет прожектора, сосредоточенный на лице фрау Шустер, летящие отовсюду осколки оконных стёкол, почти шквальный сырой ветер, истошное гудение ветра.
Не могу слушать Бетховена, не задумываясь о Нюрнберге, говорит Шустер.
Неужели государство не нашло лучшего применения деньгам налогоплательщиков, чем профинансировать нечто, оскорбляющее чувство наших граждан, говорят случайные прохожие.
Следует немедленно привлечь господина Бернхарда к ответственности за преступную дискредитацию, кроме того, было бы нелишним проверить, как господин Пайман ведёт дела и что позволяет себе ставить в знаменитом, всемирно известном венском учреждении культуры, которым по праву гордится всякий житель нашего города, говорят случайные прохожие.
Мы пройдём маршем по городу и добьёмся, чтобы подобной похабщины не было на сцене нашего любимого театра, мы достучимся до руководства, на этого Бернхарда найдётся подходящая мера наказания, говорят случайные прохожие.
Мы считаем это, с позволения сказать, произведение искусства порочащим честь нашего великого народа, необходимо провести экспертную оценку, внести автора в соответствующий реестр, привлечь к уголовной ответственности, провести воспитательную беседу, попросить определиться с позицией, говорят случайные прохожие.
За двадцать с лишним лет до этого другой австриец, Хандке, уже оскорблял публику, даже прямолинейнее и честнее, в шестьдесят шестом во Франкфурте он представил пьесу Publikumsbeschimpfung, где на руинах четвёртой стены актёры обращались к публике, высказывали претензии, говорили ей в лицо, что думают, ругались, но ни в коем случае не посягали на историческую справедливость, не ставили под сомнение духовные ценности общества.
Бернхарду снится, что он катается на коньках по замёрзшему морю, он видит мужчину в шляпе и со шрамом в уголке рта, играющего на губной гармошке, потом ему снится, что он лежит в кровати, видит стену и дверь, стоило мне уснуть, и я все время видел ту же стену и дверь, потом меня тошнило, не могу припомнить свой сон, когда я потянулся за сахарницей, показалось, что почти вспомнил, наверно, мне приснилось что-то важное, мужчина со шрамом в уголке рта давится слюной, хотите воды, равнодушно спрашивает женщина в халате и отстригает себе длинные каштановые волосы, их белые, как мел, лица светятся в больничных окнах на фоне взгромождённых друг на дружку подушек, мне всё чаще снятся сны, где люди вылетают из окна и залетают обратно, люди, растения, которых я никогда раньше не видел, мы принимаем все необходимые меры предосторожности, чтобы умереть, носильщики подчистую вымерли.
Бернхард на белой скамейке гамбургским летом семидесятого, на фоне шевелящейся листвы, между сомнамбулическими затмениями, похожими на паузы между абзацами, накинув на плечи пиджак, изредка жестикулируя, глядя на птиц, на режиссёра, Радакс стоит на отдалении, время от времени запрокидывая объектив к листве либо роняя вперёд, на птиц, в одиночестве я ощущаю счастье, другие находят мою жизнь монотонной, глупец не знает о трудностях, он просыпается, умывается, выходит на улицу, потом его что-то сбивает, переезжает, ему всё равно, у меня в книгах всё искусственно, персонажи, события, явления как бы на сцене, как в пьесе, всё пространство вокруг сцены погружено во тьму, иногда Бернхард смещён в левый угол кадра, сбалансированный деревом справа, листва занимает бóльшую часть пространства, он смотрит куда-то вниз, на ботинки Радакса, хотя издалека его обуви, скорее всего, не видно, вы толком не осознаёте, что метастазы распространились у вас по всему телу и что излечить это невозможно, для меня нет красивей места, чем Вена, там живут люди, которых я знаю больше двадцати лет, они целиком состоят из меланхолии, я часто в неё впадаю, мне нравится прогуливаться по венским кладбищам, иногда я узнаю имена, это меланхолия, когда заходишь в магазин, за прилавком стоит знакомая продавщица, двадцать лет назад её движения казались оживлёнными, но теперь замедленны, она медлительно ссыпает сахар в пакет, совершенно иначе, чем прежде, извлекает из кассы деньги, камера, будто ощущая свою неприкаянность, фокусируется на отдельных деталях, на коре дерева, на ботинках, на перебирающих что-то пальцах, на другой камере, всё время продолжаю незримый диалог с отцом, всё время продолжаю незримый диалог с прошлым, всё разрушается абсолютным беззвучием, из одной тьмы в другую, закашливается, из одной, из первой тьмы в заключительную.
Бернхард в серых брюках и чёрной вельветовой кофте на белую рубашку, скорее всего, ту же, в которой сидел недавно в Бройнерхофе, с зачёсанными назад седыми волосами, стоит на сцене, левой рукой держит Паймана за руку, правой держит за руку какого-то актера с усами и в очках, его имени я не знаю, Бернхард довольно улыбается, он попытался обобщить свои мысли, ему кажется, что они стали хотя бы отчасти понятными, он смотрит на публику в зале, многие ушли через полчаса после начала, некоторые, повоспитанней, дождались антракта, по этим признакам он понимает, ему удалось сказать именно то, что хотелось.
На пути домой ему будет казаться, что за ним кто-то идёт.
[…]
На экране дрожащими буквами название, помехи, имена сквозь густую зернистость.
Тиканье часов, в кадре полупустая бледная комната, возникают трое, синхронно разуваются, вытирают тряпками пол, один из них на кровати, тяжело дышит, ему, скорее всего, снится кошмар, под головой у спящего проплывают пшеничные волосы, дымящийся утюг, раковина, женщина в чепчике, похожая на медсестру, садится на кровати и беззвучно, будто в немом кино, кричит.
Вы вообще в своём уме, вскрикивает начальник, брезгливо роняя пачку бумаги на стол, Параджанов сидит с другой стороны стола и смотрит куда-то вниз, при чем здесь двадцатилетие, при чем здесь Киев и фрески, он кричит, с каждым очередным словом повышая голос, вы называете это киевскими фресками, какие это фрески, Параджанов по-прежнему молчит и смотрит вниз, вы слышите, что я говорю, Параджанов поднимает взгляд, смотрит безучастно.
Я не понимаю, вы издеваетесь, что ли, вы вот это действительно хотите снимать, вам нечего больше сказать, кроме этой чепухи, начальник перебирает листы нервными рывками, вот, у вас тут летают бумажные самолетики, или вот, солдаты разуваются, моют пол тряпками, зачем они моют пол тряпками, вы меня подставить хотите, что это за бред, ну чего ты молчишь, художник, последнюю реплику он выкрикивает отвратительно протяжно и громко, кажется, его голос отдает эхом, Параджанов ничего не произносит в ответ.
Мужчина трёт ладонями лицо, будто умываясь или стараясь смахнуть приснившийся кошмар, камера отдаляется, он сидит на полу, поодаль, за его левым плечом стоит швейная машинка, рояль, разобранный на части, без ножек, мужчина ложится в его нутро, прямо на обеззвученные струны, как в гроб, с рушником на шее, мизансцена, люди в застывших позах, над ними по комнате летают бумажные самолетики, на полу распахнутые книги, девушка с обручем, закадровый голос, меня надо было изъять, и это произошло. Рома, прочти, пожалуйста, третий том, Оскар Уайльд, ты всё поймешь, аналогия во всём.
Параджанов сидит на стуле, мне рассказывали про ваши киевские фрески, говорит начальник, демонстративно растягивая каждое слово, он держит очки в правой руке, вытирает стёкла носовым платком, там, говорят, у вас бред сумасшедшего, порнография, мистика, а вы хотели это снимать для народа, Параджанов смотрит куда-то вниз, хотели свои извращённые фантазии выдать за искусство, думаете, вы такой первый, так вот нет, не первый, боюсь, что и не последний, тяжело вздыхает, и то, что с вами теперь происходит, закономерно, вы же сами прекрасно понимаете, он говорит спокойно, издевательски.
Я много таких повидал, которые себя мнят художниками, кровью плюётесь после вчерашнего, ну ничего страшного ведь не произошло, ну попачкали руки, прорвало трубу, вы любезно помогли прибраться, зачем вы ноете, начальник поднимает со стола лист бумаги, разумеется, вы вольны писать в письмах любую чушь, но вам ведь потом самому будет стыдно, и народу было бы стыдно за ваши фрески, начальник смеётся, Параджанов молчит, вы только думаете, что имеете отношение к искусству, но я вас уверяю, ничего, кроме стыда, от вас в конечном итоге не останется.
Вращается вялый вентилятор на потолке, издавая звуки холостых выстрелов пулемёта, шляпы в образе ворон, фазанов висят на бронзовых крючках и как бы высиживают яйца в плетёных полках.
Везде теперь отсутствует время, в Ардви, в Сурами, в Криворивне, вернее, его никогда не было, оно замкнулось в спираль и куда-то исчезло, Параджанов сидит на раскладном стуле под зонтиком, вытирает полотенцем лицо от пота, тем временем к Сурамской крепости подползают тела людей, отара овец убегает в левый нижний угол по шевелящемуся полю, заштрихованному желто-пыльным цветом.

