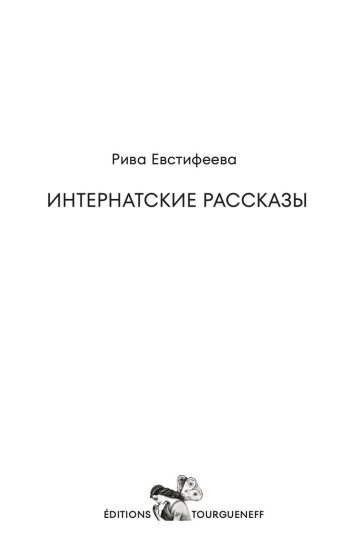
В очень странной атмосфере начала девяностых — голодной и креативной — с интернатом иногда происходили странные вещи, в том числе, по какому-то недосмотру небесных и земных канцелярий, изредка даже хорошие. Кроме американских миссионеров, на нас иногда обращали взор какие-нибудь деятели культуры и совершенно неведомые нам отделы образования. Тем более что, например, на деревянных ложках и металлических треугольниках мы очень ладно играли — и даже ездили на какие-то конкурсы. Один раз даже наравне с нормальными музыкальными коллективами из приличных школ. Бывало, что нам доставались билеты на какие-то культурные события — правда, там мы бывали в основном вместе с детдомовскими. Мы прекрасно знали, чем отличаемся от них: мы были пестрее, живее, наглее — а они были совсем заморенные и молчаливые. Мне было перед ними даже неловко, потому что было очевидно, что им нужно гораздо больше внимания, чем нам. Нас было достаточно накормить и отмыть, чтобы мы стали похожими на, может быть, очень неуспевающих и отвратительно воспитанных, но всё-таки обычных детей. А они были как будто навсегда оглушены ненавистью и жестокостью, никакой альтернативы которым не видели, в отличие от нас, у которых альтернативы которым не видели, в отличие от нас, у которых были если не родители, то дальние родственники, а если не дальние родственники, то хоть кто-то из учителей. К ним, похоже, шёл персонал более жёсткий и отчаянный.
Мы вообще всё время жили на границе потустороннего мира и нормального. Часть интернатовцев была из обеспеченных семей (то есть всё равно заброшенная родителями, но хотя бы по выходным живущая вполне приличной жизнью), часть учителей тоже далеко не сразу понимала, где оказалась. Вот, например, учительница русского языка Елена Руслановна — бойкая, хрупкая, острая на язык — иногда до грубости, — честная и в целом очень сердечная молодая женщина, нанявшаяся на работу в интернат только потому, что недавно вышла замуж за жителя одного из соседних домов. Бог знает что рассказало ей начальство при приёме на работу. Понимание ситуации приходило к ней медленно, она даже видимо сопротивлялась. Но ведь и нам тоже рассказали бог знает что при приёме в первый класс. У нас был английский язык с первого класса (то есть тапок Людмилы Зиновьевны), а потому — вступительные экзамены. Это был какой-то цинизм восьмидесятого уровня, эти люди были бы в состоянии и в концлагерь запускать по результатам собеседования.
Я, кстати, эти экзамены прошла довольно оригинальным образом. Вообще, брать меня не хотели, потому что я была на год младше остальных, и сразу предупредили мать, что я поступлю только в случае, если окажусь одарённым ребёнком. Поскольку детский терапевт ещё в последние месяцы беременности убеждал её, что ребёнок родится умственным и физическим инвалидом, и поскольку к таким, в глазах моей матери, ключевым в воспитании шестилетнего ребёнка вещам, как деление в уме или шитьё петельным швом, я действительно показывала себя решительно неспособной, никакой одарённости от меня не ожидалось. Но отступать было некуда. Мать привела меня экзаменоваться. Меня посадили за стол и положили перед моим сопливым носом три пластмассовые монетки разного размера: пяти-, двух- и однокопеечную.
— Ну чё, скок монеток? — спросили учительницы-экзаменаторы.
— Восемь, — ответила я.
— Ну вот видите, женщина, — сказала сразу же одна из учительниц, — Ваш ребёнок сршенно не способен к счёту и никогда не потянет занятий со старшими ребятами.
— Подождите-подождите, — сказала другая и нагнулась ко мне поближе. — Ты чё считала-то — монетки или копейки?
Я смотрела на них в молчаливом ужасе. В каком-то смысле типично интернатским ребёнком я была ещё до интерната — благодаря яслям, детским садам на пятидневке и санаториям, в которых я провела все свои ранние годы с очень небольшими перерывами.
— Так, а тут сколько? — ткнула учительница в пятикопеечную.
— Пять.
— А тут?
— Две и одна.
Это произвело замешательство. Я не только умела считать предметы, но и ловко складывала.
— Давайте дадим ещё одно задание, чтобы увидеть, есть ли у ребёнка задержки в развитии. Ну-ка, на карандаш и вот тут нарисуй нам человечка.
Хо-хо, нарисовать человечка. Рисовать человечков — это я конечно, это я завсегда. Я их уже нарисовала, например, дома на обоях и на деревянной обивке ванны, а также в материнском паспорте. Но мать не очень оценила моё творчество. Почему-то. А я очень старалась.
Учительницы посмотрели на моё творение опять же в некотором замешательстве. Человечек определённо был человечком. Но при нём были какие-то непонятные детали, бросавшие некоторую тень на психический профиль автора.
— Э-э-э-э… А чё тут за ерунда у него сбоку?
— Он спешит на работу. Это чемодан.
В моём представлении взрослые всегда спешили на работу.
— Та-а-ак, а вот тут шарики с палками из головы выходят…
— У него причёска “хвостик”. А это на хвостиках — резиночки в форме шариков.
Тогда у многих девочек были резиночки с украшением в виде пластмассовых шариков, поэтому референт у учительниц сработал, к счастью. Правда, немного разошлись референты “девочка с хвостиками” и “спешит на работу с чемоданом”. Просто резиночки с шариками были у старших воспитанниц последнего детского сада, куда меня занесла судьба перед интернатом, а ведь семилетние воспитанники детского сада и взрослые — это же почти одно и то же. Ну, для пятилетнего воспитанника детского сада, во всяком случае.
— Необычно, — хмыкнули учительницы. — Но, по крайней мере, речь поставлена.
— Да, с речью всё в порядке, даже слишком, — заверила мать, очень страдавшая от моей разговорчивости и мечтавшая, что я стану адвокатом, чтобы хотя бы поставить этот дефект на службу человечеству.
А я сидела совершенно счастливая тем, что кто-то наконец поговорил со мной о моём творчестве.
Меня приняли. Правда, скорее на мою беду, чем на счастье, но бог знает, куда бы меня засунули, если бы я не прошла туда. Кажется, я рисковала детдомом.
Естественно, из моих одноклассников считать до трёх умели всего несколько человек. Складывать цифры на монетках — ну, может, двое. А бегло читать не умел никто вообще.
Но логики в интернатской системе не было — и обижаться было тоже не на кого.
И вот именно благодаря этой же нелогичной и случайной игре судьбы, а может, благодаря какому-то неизвестному нам благодетелю, через несколько лет, когда я была то ли в третьем, то ли в пятом классе, нас пригласили на съёмки телепередачи для детей. Телепередача должна была придать себе в чьих-то глазах какой-то там благородно-благотворительный оттенок. На передаче раздавали призы — и очень роскошные для своего времени призы. И вот — мне неведомо, то ли спонсоры заинтересовались, куда конкретно эти призы уходят, то ли публика попросила больше смысла для раздачи игровых приставок на глазах у голодных телезрителей, — одного из трёх участников телеигры в тот раз решили взять прямо из глубокой нищеты.
Игра заключалась в том, чтобы отгадывать ребусы. Ребусов было немного, их показывали на большом экране, они были анимированными, и догадавшийся игрок должен был лупить по большой кнопке на столиком перед ним. Кто угадал больше ребусов, уносил с собой в подарок или крутую игровую приставку, или огромную машину для Барби, или плюшевого медведя размером с дом.
Нас привезли в студию толпой — наш класс и ещё несколько, постарше. Мы, опять же, были торжественно одеты: на мне, помнится, было платье цвета морской волны. Не рваное и даже в какой-то отдалённой степени моего размера. Нас загнали в какой-то тесный коридор — и выпустили к нам работника киностудии.
— Ну-ка посмотрим, дети, умеет ли кто-то из вас разгадывать ребусы! — закричал он.
Никто не знал, что это такое. Мы молчали и только иногда чесались от вшиных укусов.
Дядька заметно расстроился.
— Ну вот если вы видите, что нарисована коса, а перед ней одна запятая?!
— Оса, — сказала я. Ребусы я ненавидела, по крайней мере, меньше загадок и лучше понимала, что с ними нужно делать.
Мои товарищи вообще не понимали, что происходит. В интернате никаких ребусов не было, и бог знает в каких книгах я нахваталась этой премудрости.
— А вот если нарисован дом, запятая и рога? [Не помню, что он там точно спрашивал, но что-то вот в этом духе.]
— Дорога!
— Та-а-ак, девочка, ну-ка поди сюда.
Меня выпихнули к нему — отчасти с ненавистью, потому что мне явно доставалась какая-то привилегия, отчасти с гордостью, потому что всё-таки в грязь лицом не ударили и работников киностудии впечатлили.
— Зна-ачит так, — дал он команду своим коллегам, — эту гримировать, а остальных в публику вот по тому коридору.
Тут все обрадовались, потому что оказалось, что привилегия всё-таки досталась не только мне и что по телеку покажут в итоге нас всех. И даже крикнули мне вслед что-то подбадривающее, типа, давай, Рёва, сделай их там всех! покажи им класс! (Не нужно, наверное, пояснять, почему у меня было такое прозвище.)
Меня взяли за плечи и куда-то повели по пугающе огромным коридорам киностудии — и наконец сдали на руке даме-гримёру. У неё уже сидели в креслах под лампами две хорошенькие девочки сильно старше меня, лет двенадцати. Они были чистые, сытые, прекрасно причёсанные и модно одетые.
Увидев меня, гримёрша не обрадовалась.
— Это что это вы мне привели? В зелёном платье — и сама зелёная. Да я это три часа гримировать буду!
Но выбора не было, и ей пришлось разбираться с тем, что дали.
Процесс действительно затянулся, и в гримёрку несколько раз нетерпеливо заглядывали работники студии, потому что ведущий уже нервничал. Гримёрша огрызалась, показывала им на меня и говорила:
— Ну, вы это видите? Что с этим делать? Вот лицо я ей хоть немного выровняла — так шея зелёная осталась!
На меня накладывали слои штукатурки. Штукатурка чесалась и зудела. Приходилось впиваться в кресло пальцами, а то ещё гримёрными кистями меня не колачивали.
Тем временем хорошенькие куколки в соседних креслах несли какой-то невероятный вздор — при этом одна из них называла гримёршу тётей Таней, а другая — мамой. То есть обычно, видимо, роскошные призы распределяли между сотрудниками киностудии. Я их не осуждаю, потому что бог знает, платили ли им как-нибудь иначе — всё-таки начало девяностых.
Но очевидная железобетонная глупость моих будущих соперниц придала мне куража. В студию меня привели с оплывающей под софитами трёхслойной штукатуркой на физиономии, но в приподнятом настроении.
Правда, возникла ещё одна проблема: оказалось, что игровая стойка доходила мне чуть ли не до подбородка. Я была неожиданного возраста, да ещё и сама по себе мелкого сложения — даже среди ровесников. Долго бегали по студии и искали для меня какую-нибудь подставку. Ведущий уже меня ненавидел.
Я, пока ждала, осматривалась вокруг: хотя софиты били мне прямо в лицо, всё-таки можно было рассмотреть и публику, которая тоже была ярко освещена. К счастью, родные интернатовцы сидели кучно на трибуне, которую с моей стойки было хорошо видно.
Наконец подставку принесли, водрузили меня на неё — и эфир начался.
Кажется, эфир был то ли прямой, то ли с минимальным запозданием. Но нас в телевизоре увидели сразу же. Как потом оказалось, учеников младших классов посадили к телевизорам. Весь интернат — кто с трибуны, кто через телевизор, — затаив дыхание, наблюдал, покажем ли мы этим всем на орехи.
Первые два ребуса были совершенно ерундовыми. То есть это было даже оскорбительно просто. Ну, типа, я не знаю, “100 Л”, вот такого уровня. Я резво жала на кнопку, а мои пустоголовые, хотя и прекрасно причёсанные соперницы отчаянно тормозили. Они вообще не имели внятного представления о том, что делать с этими картинками, запятушками и циферками, и, очевидно, пришли просто красоваться и получать свои подарки.
Мои одноклассники ревели от восторга каждый раз, когда у меня получалось. Я понимала, что удивительным образом мне выпала возможность показать всему миру, что мы, интернатские, хоть нас и надо долго мыть и мазать тремя слоями штукатурки, и платья у нас уродливые и не по росту, — но мы тоже имеем право. Мы тоже граждане этого мира. Это для интернатовцев как полуизгоев невероятно важно. Оказаться по эту сторону, а не по ту. На один день, на один невероятный день звёздной мечты. Мы в телевизоре. Мы имеем право выиграть у этих — домашних, нормальных. Один из нас оказался там, среди нормальных, и его не вышибли обратно — значит, у всех нас есть шанс когда-то оказаться среди нормальных.
Давай, Рёва. Не сдавайся. Пробирайся вперёд.
Но третий, последний ребус, мне не давался. Зашифрована была героиня сказки. Это само по себе было проблемой, потому что круг чтения у меня был всё-таки очень специфический и не похожий на то, что читали домашние дети. Я знала очень много про пионеров-героев и немного про сыщиков. С героинями сказок всё было куда хуже.
Заканчивалась она, несомненно, на “-очка”, потому что там была (например) почка и запятушка перед ней. Посередине было что-то серобуромалиновое с бантиком, там один чёрт разберёт. А вот в начале был персонаж фильма. Я знала, что это персонаж фильмов Гайдая, которые показывали почему-то всегда только по первому каналу, а он в моём домашнем телевизоре не ловился (тот был настолько дряхл, что удивительно, что там ловилось хоть что-то). Я знала, что в этих фильмах есть вездесущая троица персонажей, одного из которых, вроде бы, зовут Бывалый.
При всем разнообразии сказочных персонажей, вряд ли в игре была загадана Бывалочка. И вряд ли Балбесочка — кажется, такой у Гайдая тоже был. Впрочем, кто их знает, на фоне Муми-троллей, мишек Гамми и Том-Тит-Тотов. Всякое бывает, пойди разбери этих взрослых, вздора напридумают.
Мои соперницы явно опознали персонажа, но понятия не имели о двух остальных компонентах, поэтому смотрели на меня стеклянными глазами и просто тупо надеялись, что у меня ничего не выйдет и проиграем мы все втроем.
Я представила себе, что будет, если я проиграю. Во-первых, меня просто прибьют, как муху, по возвращении в интернат. А “во-вторых” уже будет несущественно, потому что прибьют меня по-настоящему. В зелёных глазах Эськи уже светилось обещание отправить меня на тот свет тихим интернатским вечером, пока нянечки обходят другие этажи.
Я смотрела на своих одноклассников. Это было очень страшно. Но одновременно их было очень жалко. Они подобрались так близко к небывалому чуду, к осуществлению такой мечты, о какой даже и не мечталось никогда.
— Ну, ты совсем не знаешь ответ? Ну, подумай! — нервничал ведущий.
Я стала отчаянно оправдываться:
— Я знаю, что в конце будет “очка” — и, скорее всего, даже “алочка”, но я не понимаю начала, я не видела этих фильмов!!!
Три слоя штукатурки рисковали потечь ручьями. Всё-таки прозвище мне же дали не просто так.
— У тебя ещё пять секунд — и ты проиграешь абсолютно всё! — нагнетал ведущий.
И тут Анька — жившая с очень общительной и по-своему заботливой матерью, а потому видевшая все комедии с Первого канала — соединила изображение Вицина с той частью, которую мне всё-таки удалось угадать, и показала мне знак: подняла руку — и свела и развела два пальца.
Конечно же. Это был рыбий хвост, превращенный в ноги. Персонажа звали Трусом.
— Русалочка!!!! Это Русалочка!!!!!!! — заорала я, давя со всей дури на кнопку.
Ведущий, бедолага, сам испереживался — поэтому заорал от радости не меньше моего:
— Да-а-а-а-а! Молодец, Рита-а-а-а-а-а-а!!! Сегодня ты стала победительницей нашей игры!!!!!
Интернатская трибуна неиствовала. Я думаю, счастливые вопли и исступлённый топот были слышны до самого Новосибирска. Вся замерзшая, битая, обворованная и вшивая интернатская душа рвалась из тела криком и летела через яркие солнца прожекторов в космическую мглу студийных декораций.
Ведущий тем временем шёл к стойке с призами.
— Итак, третье место в нашей игре “Грош в квадрате” сегодня заняла Маша — и она уносит с собой этот лимузин для куклы Барби! Второе место заняла Наташа — и ей достаётся этот медведь!!! А наша победительница Рина… — он ходил вокруг подарков. Больше медведя всё равно ничего не было. Но ещё были и роскошная приставка, и синтезатор, и бог знает какие ещё дары сезама.
Но мужик выбрал для меня сиротливо стоящий с краю тёмненький магнитофон.
В студии воцарилось гробовое молчание.
Несправедливость вознаграждения была какой-то слишком вопиющей, а дети в этом отношении иногда способны не спускать взрослым ни на дюйм, даже если в жизни не видели ни одного из этих даров развивающегося капитализма.
— Мы дарим нашей победительнице Римме вот этот прекрасный магнитофо-о-он!
Публика безмолвствовала. Не только мои интернатские, которые ожидали для своего делегата, только что добывшего для них луну с неба, какой-то из подарков хотя бы с третьей ступеньки огромной выставки, но не с последнего края. Молчали все трибуны.
— А также… во-о-о-от эту мягкую игрушку!
Ведущий решил добрать количеством и выхватил со стойки небольшую плюшевую собачку, размером примерно с его руку. У собачки были тёмно-розовые уши. Магнитофон-то у меня дома уже был — мать нашла на помойке, как многие в то время, и полностью перепаяла, она прекрасно умела обращаться со всякой техникой. А вот плюшевых игрушек у меня не было. Собачка сразу мне понравилась.
— И ещё вот этот модный зонти-и-и-ик!!!
Зонтик был большой. На кой чёрт маленькому заморенному интернатовцу, практически не видящему уличного света, огромный бело-синий зонтик, было решительно непонятно. Но всё-таки размеры зонтика и его жизнерадостная модная окраска убедили интернатовцев, что в целом на этом можно примириться.
Все радостно зааплодировали и от души закричали: “Ур-р-р-ра-а-а-а”.
Ведущий пожал мне руку — и за мной пришли специальные люди возвращать меня в гримёрку на соскребание штукатурки. Проходило оно безрадостно, хотя мои белокурые соперницы были счастливы своим призам, каждый из которых совершенно очевидно превосходил по красоте и стоимости маленький магнитофон, собачку, нелепый зонт и меня вместе взятых.
Но и я была совершенно счастлива, мне ли привыкать к несправедливости. Я уже придумала собачке имя — Грошик (производное от “Гроша в квадрате»”). Конечно, она не сможет жить со мной в интернате, там её моментально сопрут; но если она каким-то образом доберётся до моего дома — о, там я окружу её любовью и заботой и буду сама стирать в порошке “Ариэль”. Она будет спать со мной в кровати и по воскресеньям смотреть вместе со мной телевизор.
Отмыв, меня сдали обратно интернатскому сопровождающему — кажется, это была одна из учительниц математики старших классов.
Возвращались мы опьянённые победой. Когда мы прибыли в интернат, оказалось, мы уже были там знаменитостями. Каждый с удовольствием рассказывал младшеклашкам, каково это — сидеть на трибуне во время съёмок. Учителя журили меня за незнание актёра Вицина и его кинематографического амплуа. Но всё-таки добавляли:
— Молодец, Истифеева. Защитила честь школы.
Когда толпа вокруг меня немного рассеялась — и мне подали мой трофей, — я позвала Аньку. Хоть я её и недолюбливала — а она меня, — но в этой истории без неё и меня, и всех нас ждал бы позор.
— Да лан, я чо: ты там эти, блин, ребусы того, — сказала Анька.
— Да я без тя, в натуре, чо бы там — ничо бы там, — ответила я на нашем интернатском наречии. — Кароч, бери, чё хошь.
Синий был Анькин любимый цвет. Кроме того, в этот день в нас проснулись самые возвышенные чувства — и претендовать на магнитофон она не стала. Хотя я готова была ей его отдать.
Она взяла зонтик. Зонтик и правда был модным и дорогим — к тому же Анька была девочкой высокой и продолжала стремительно расти. Так что скоро он мог стать ей и впору.
Удивительным образом у нас ничего из этого не украли. Отношение к этим предметам было священным. Мы благополучно доставили их в пятницу вечером своим родителям.
Грошик прожил у меня до самой эмиграции. Потом мать, кажется, отдала его детям дворника-узбека — что и хорошо. Магнитофон помог мне уже в подростковом возрасте копировать музыкальные кассеты и слушать FM-диапазон, так что тоже был любим многие годы.
Через несколько дней после этого происшествия меня уже вновь мордовали как ни в чём не бывало.

